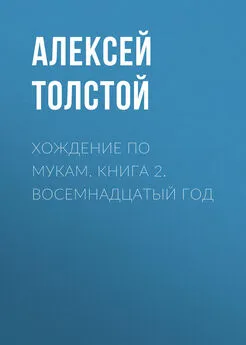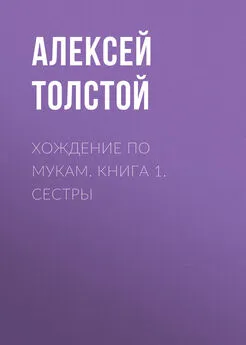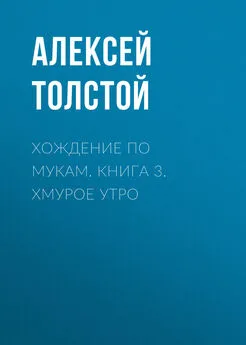Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам
- Название:Хождение по мукам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-02-037541-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Хождение по мукам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тот же период сознательные поиски аналогий современным событиям в русской истории привели Толстого к новому для него жанру – исторической прозе [307]. Временем, в котором писатель искал «разгадки русского народа и русской государственности» (I, 44), стала эпоха Петра Великого. Ей посвящены созданные на протяжении 1917—1918 гг. повесть «День Петра», рассказы «Навождение» [308]и «Первые террористы». И если два последних – всего лишь этюды, отражающие знакомство с темой, то «День Петра» – важная веха в художественном творчестве Толстого. Спустя много лет писатель признавался, что произведение было написано «под влиянием Мережковского» (X, 201), автора известного романа «Петр и Алексей». Потому и вынесены на первый план повествования проблемы исторического одиночества Петра, несоответствия его преобразований духу русского народа: «О добре ли думал хозяин, когда с перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал из Голландии в Москву (...) Разве милой была ему родиной Россия? С любовью и скорбью пришел он? Налетел досадный, как ястреб: ишь угодье какое досталось в удел, не то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же в этот день все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по иному. Чтобы духу не было противного русского. И при малом сопротивлении – лишь заикнулись только, что, мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хазарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстановляли родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся. – Куда тут. Разъярилась царская душа на такую самобытность и полетели стрелецкие головы» [309]. Но уже в рамках этого популярного для начала XX в. взгляда на Петровскую эпоху зреют сомнения автора в его справедливости и категоричности. В финале произведения Петр предстает человеком, на чьи плечи «свинцовой тягой» легло «бремя этого дня и всех дней прошедших и грядущих», взявшим на себя «непосильную (...) тяжесть: одного за всех» [310]. Впоследствии, по мере работы над текстом повести в ее различных вариантах, позиция писателя становилась все более противоречивой, но вместе с тем и более многомерной. Все ближе оказывался Толстой к признанию исторических заслуг Петра перед русским государством. В своем романе «Петр Первый», работа над которым началась в конце 1920-х годов, он сделал попытку уравновесить два противоположных взгляда на личность и дело Петра Великого, сформированных на протяжении двух веков в недрах русской общественной мысли, что в конечном итоге соответствовало наиболее трезвым концепциям осмысления Петровской эпохи, созданным русской исторической наукой XIX в. [311]
Несомненно, Петр заинтересовал Толстого, прежде всего, как строитель русского государства нового времени, зачинатель той цивилизации, крушение которой наблюдал и переживал писатель. Ввиду произошедших событий сама тема национального государственного образования как основы жизни народа не могла не найти отражения в его творчестве. Именно в момент совершившегося в русской жизни глубокого разлома Толстой начинает ощущать себя человеком государственным. В один из дней зимы 1917—1918 гг. он запишет в дневнике: «Распадение тела государства физически болезненно для каждого: кажется, будто внутри тебя дробится что-то бывшее единым, осью, скелетом духа, дробится на куски; ощущение предсмертной тоски; воображение нагромождает ужасы. Мое духовное и физическое тело связано с телом государства; потрясения, испытываемые государством, испытываются мною» [312].
Вот почему переосмысление писателем событий на родине, уже в конце 1919 – начале 1920 г., в эмиграции, происходит по мере того, как «кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх», как «совершается грандиозное – Россия снова становится грозной и сильной» [313]. Вот почему «государственная» тема находит свое непосредственное воплощение в романе Толстого о войне и революции. Соотнесенностью с ней отмечены монологи не только Телегина и Рощина, непосредственных участников финального спора о судьбе России, но и таких разных персонажей, как, например, половой в гостинице, где проводят ночь Елизавета Киевна и Бессонов («Заладила про свою деревню. Тоже Рассея! Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Рассея. Все сволочи! Сволочи и охальники»); глава либеральной газеты «Слово народа» («Сложность нашей задачи в том, что, не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности Российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, – есть в эту минуту вопрос второстепенный»); не лишенный автобиографических черт Николай Иванович Смоковников («Что же поделаешь, моя милая, приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Мы только читали у разных Иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях. Мы думали – государство – очень милая и приятная вещь. Ах, какая Россия большая – взглянешь на карту. А вот теперь потрудитесь дать определенный процент жизней для сохранения целостности того самого, что на карте выкрашено зеленым через всю Европу и Азию»); солдат Зубцов с его уверенностью в ответственности государственной власти за совершенный им на войне грех убийства («...грех-то мой на себя кто-нибудь взял, – генерал какой, или в Петербурге какой-нибудь человек, который всеми этими делами распоряжается...»). Такая откровенная вариативность и полифония в развитии государственной темы в романе, где речь идет о возможной гибели страны, в том числе и как государственного национального образования, придают ей объемность, стереоскопичность и многоплановость, но, вместе с тем, предвосхищают ее логическое завершение в финальном монологе Телегина, за которым здесь легко угадывается сам автор произведения.
В годы войны и революции осмысление современных событий с позиций длительной исторической ретроспекции способствовало формированию у Толстого почти не покидавшего его закономерного оптимизма (лишь однажды, 3 ноября 1917 г., в день окончания октябрьских боев в Москве, он запишет в дневнике: «Чувство тоски смертельной, гибели России, в развалинах Москвы, сдавлено горло, ломит виски» [314]). Писатель всегда был достаточно далек от мысли об апокалиптическом конце, погибели России, хотя о широком распространении подобных настроений в русском обществе писал еще в январе 1917 г.: «Я приехал на фронт из Москвы, из тыла, истерзанный разговорами о том, что Россия вообще кончается, что нельзя продохнуть от грабежей и спекуляции, общество измызгано, все продано и предано...» [315]. Толстому хотелось верить, что страна, пройдя через горнило революции, освободившись от накопленных за многовековую историю грехов, выйдет победительницей из всех испытаний. В статье «То, что нам надо знать» осенью 1918 г. он писал: «Мне говорят, – Россия погибла, распалась. Неудачная война и большевизм потрясли ее до основания; чужеземные войска клочком бумаги разрубили ее как наковальню картонным мечом. Я этому не верю и не могу верить, потому что ни теориями, ни формулами, ни облеченным в красногвардейскую форму силлогизмам не уничтожить живой, реальной формы. Ни война, ни революция не убили народ и в нем не уничтожили сущности, делающей его единым народом» [316]. Наследником этой сокровенной веры Толстого в возможное историческое будущее страны является в романе «Хождение по мукам» Иван Ильич Телегин. Именно он, полемизируя с приехавшим с фронта Вадимом Рощиным, ставит последнюю точку в их нелегком споре о возможной гибели России: «Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, – и оттуда пойдет русская земля». Примечательно, что этому выводу Телегина предшествует чтение им «огромной книги» по истории России. Веру Телегина, так же как и веру автора произведения, формирует и питает русская история, реальный исторический путь страны, не раз стоявшей на краю пропасти, неоднократно переживавшей «смутные» времена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
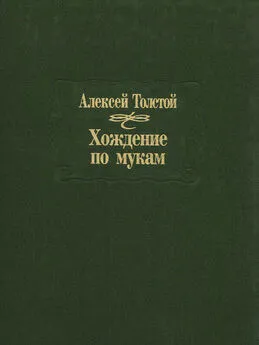

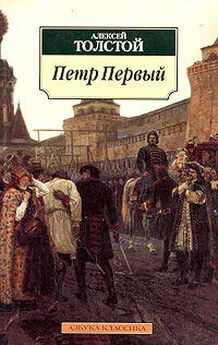
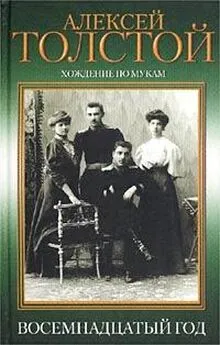
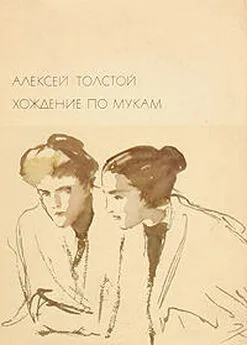
![Алексей Николаевич Толстой - Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита [Художник Г. Зубковский]](/books/1090410/aleksej-nikolaevich-tolstoj-giperboloid-inzhenera-ga.webp)
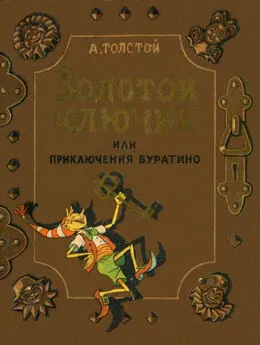
![Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам [litres]](/books/1097539/aleksej-nikolaevich-tolstoj-hozhdenie-po-mukam-litr.webp)