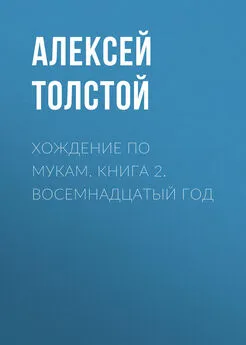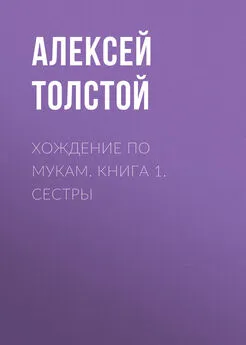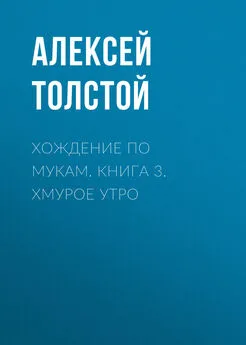Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам
- Название:Хождение по мукам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-02-037541-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Хождение по мукам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не обошел вниманием тему богооставленности и Толстой. Ею отмечен в романе монолог «неизвестного строгого старичка в очках», старообрядца, попутчика Телегина по дороге из Москвы в Петербург, повествующего о забвении человека Богом и неминуемости «жестокой» расплаты:
Содом, содомский город (...) три дня прожил у вас на Кокоревском подворье... Насмотрелся...(...) На улицу выйдешь: люди туда-сюда, – что такое?.. По лавкам бегают, на извозчиках гоняют, торопятся... Какая причина? А ночью: свет, шум, вывески, все это вертится, крутится... Народ валит валом... Чепуха, бессмыслица!.. Господи, да это Москва... Отсюда земля пошла... А вижу я что: бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены?... Это я сразу вижу... Скажите мне старику, – неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? (...) Попомните мое слово, молодой человек, – поплатимся, за все поплатимся, за то именно, что там, где человеку нужно тихо пройти, он раз тридцать пробежит... За эту бессмыслицу отвечать придется... (...) Бога забыли, и Бог нас забыл... Вот что я вам скажу... Будет расплата, ох, будет расплата жестокая... (...) Я говорю: Бог от мира отошел... Страшнее этого быть ничего не может...
(Наст. изд. С. 194).Контекст творчества Достоевского в романе Толстого закономерен и обусловлен характерной чертой времени. В конце 1910-х – начале 1920-х гг. в произведениях русского классика искали ответы на самые острые вопросы современности, щедро пользовались ссылками на темы и образы «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», «Бесов», особо подчеркивая пророческий смысл художественных текстов писателя. Н.А. Бердяев, посвятив одну из своих основополагающих статей о русской революции творчеству Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, рассмотренному сквозь призму революционных событий в России, писал: «...в Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции. Русская революция пропитана теми началами, которые прозревал Достоевский и которым он дал гениально острое определение. Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений, он проник в глубину и обнажил метафизику русской революционности. Достоевский обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный» [384].
Самого Толстого с творчеством Достоевского связывали особые, непростые отношения. Свои штудии произведений Достоевского он начинал под руководством такого блистательного наставника, как И.Ф. Анненский [385], автора «Второй книги отражений» (СПб., 1909), где анализировалось творчество Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Гейне и других. Летом 1909 г. из Коктебеля Толстой писал ему: «...недавно перечел второй раз, после “Преступления и наказания”, “Карамазовых” и “Идиота”, “Вторую книгу отражений” и увидел ясно и складки голой земли, и вот эти выжженные пропасти, и то, что, может быть, не хотел бы видеть. Читая, я облекаю мечтой недосказанное, скользну по-иному, то пойму так, как мне хочется, и вот я у себя дома в читаемом романе... Ваша книга ведет меня по голой земле, сжигая все покровы, и мне страшно заглядывать сквозь пустые глазницы в горячечный мозг, видеть на всех этих разлагающихся Свидригайловых иную, вечную улыбку. Хочется, чтобы они были только прохожими...» [386].
Темы, мотивы и образы произведений Достоевского сказались в содержании и художественной системе романа Толстого «Хромой барин» (1912), основной пафос которого был продиктован писателю идеями очистительного страдания, целительности любви, искупительной жертвы. Издателю Н.С. Клестову-Ангарскому в год публикации произведения Толстой писал: «...что касается Достоевского (...) то ведь он только конквистадор, открывший новую страну, а мы (и мы, грядущие) нахлынем ратью буйной и звенящей на девственную новую страну... Так вот, Запад, например, давно уже носит в потайном кармане Достоевского, а у нас пока отделываются блевотным романтизмом Арцыбашева и Куприна. По-моему, истинное искусство должно составиться из двух полярных элементов: Пушкина и Достоевского, и дай Бог тому колоссу, который, прийдя (а он еще не пришел), совместить в душе своей два эти полюса» [387]. Однако для самого Толстого в 1912 г. «Достоевский оказывается художником сверхмеры; мягкий лирический талант писателя не выдерживает мощного давления гения, оказывается раздавлен им» [388].
Тем не менее Толстой не оставляет вниманием творчество Достоевского. И, пожалуй, пик его интереса к наследию писателя приходится именно на первые пореволюционные годы. Так, он обращается к нему в статье «Нет!» (1919), написанной в пору интенсивной работы над романом «Хождение по мукам»:
Я вспоминаю одно место из Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда Иван Карамазов, сидя в трактире с братом своим Алешей, спрашивает его, – согласился бы он, Алеша, для счастья всего человечества, для будущего золотого века, – если бы это, скажем, нужно было, – замучить маленького ребеночка, всего только одного ребеночка замучить до смерти, и только? Согласился бы он для счастья всего человечества в жертву принести эти детские муки?
На это Алеша твердо, глядя в глаза, отвечает:
– Нет!
Большевики говорят:
– Да! [389]
Перекликается с идейно-художественными построениями Достоевского и одна из ключевых сцен «Хождения по мукам». Бегущий из плена Телегин останавливается в старой разрушенной часовенке. Его внимание привлекают деревянные скульптурные изображения Божьей Матери «в золотом венчике» и лежащего у нее на коленях Младенца, одетого в «ветхие ризки», с отломанной благословляющей рукой. Увиденное странным образом тревожит героя. Перекрестившись «мелким крестиком», он покидает часовню, но тут же, на ее пороге, встречает молодую, светловолосую женщину с ребенком на коленях:
Она была одета в белую, забрызганную грязью, свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича, – взгляд был светлый и странный, исплаканное лицо ее дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом, просто, она сказала по-русински:
– Умер мальчик-то
(Наст. изд. С. 185–186).Свершившимся фактом предстает здесь то, что было лишь намечено теоретическими построениями Ивана Карамазова, «гибнет духовное начало мира, и гибнет дитя человеческое: вот цена разрушения, его результат – уже не “слезинка ребенка”, но он сам» [390].
В поле зрения Толстого поэма Ивана Карамазова «Великий Инквизитор», центральное место в которой принадлежит разговору об искушениях Христа. Великий Инквизитор, называя их «настоящим громовым чудом», «ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы» [391], упрекает Христа в том, что тот отверг искушения и пытается доказать правоту искусителя. Перекликаются с текстом поэмы в романе «Хождение по мукам» монологи Акундина и Жадова (см. примеч. к гл. VII и XXIV), чем подчеркивается антихристовый, дьявольский характер революции, возведенной в статус сатанинского искушения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
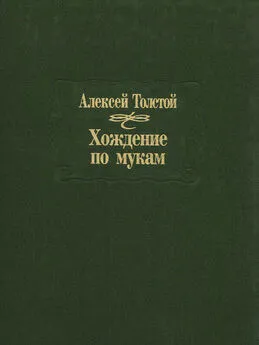

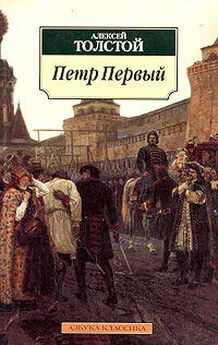
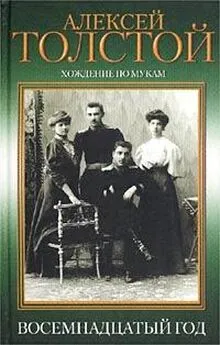
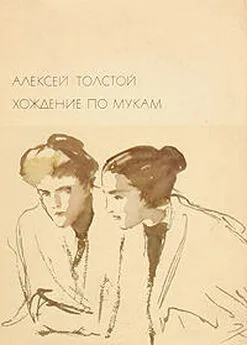
![Алексей Николаевич Толстой - Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита [Художник Г. Зубковский]](/books/1090410/aleksej-nikolaevich-tolstoj-giperboloid-inzhenera-ga.webp)
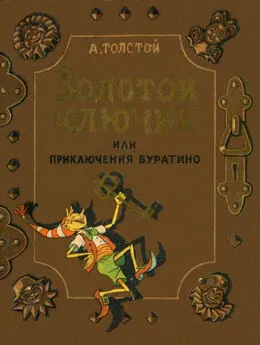
![Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам [litres]](/books/1097539/aleksej-nikolaevich-tolstoj-hozhdenie-po-mukam-litr.webp)