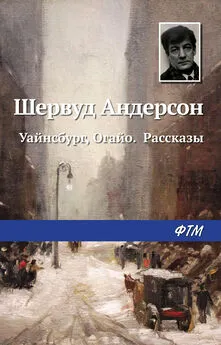Шервуд Андерсон - В ногу!
- Название:В ногу!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-02-028411-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Шервуд Андерсон - В ногу! краткое содержание
Автор посвятил эту книгу американскому рабочему классу.
Перевод с английского М. Г. Волосова, дополненный и исправленный Е. М. Салмановой.
В ногу! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Радикализм Андерсона, заявивший о себе в смутных, не слишком убедительных символах романа, это радикализм не революционера, а художника или, скорее, ребенка. Интересно, что сам Андерсон в письмах и разговорах с друзьями нередко говорил о себе как «вечном подростке», вероятно имея в виду постоянную победу в себе чувства над рассудком и мучительную крайность своих эмоций. «Подростковость» романа, во время создания которого почти сорокалетний автор переживал своеобразный период отроческого бунта, выразилась в его максимализме, в прославлении героя-сверхчеловека, в той важной роли, которую в нем играет тема личности и толпы.
В романе, однако, личность и толпа не противопоставляются, не являются чем-то антагонистичным, что, возможно, было бы характерно для произведения, в действительности написанного юношей. Заставляя Мак-Грегора выстраивать людей в марширующие в едином строю отряды, Андерсон, уже имевший за плечами богатый жизненный опыт, тем самым как будто заявляет о свойственной каждому отдельному человеку потребности целостного, глубинного слияния с другими такими же людьми, запертыми в ловушке хаоса и одиночества. Разрабатывая проблему взаимоотношений индивидуума и человеческой массы, писатель уже в этом раннем, во многом наивном романе определяет ключевой аспект своего сложного художественного мировоззрения. Слияние с другими, по мысли Андерсона, не означает утраты индивидуальности; напротив, оно дает возможность приобщиться к таинственному внутреннему свету и великолепию жизни, крошечная часть которого находится в каждом человеке. Собранные воедино и сомкнутые в кристально-геометрическом порядке эти частицы, утверждает писатель, и составляют основу изначальной вселенской гармонии бытия.
Соединение в едином марше с тысячами людей заставляет умолкнуть вечно вопрошающий мучитель-разум и позволяет телу познать эйфорию ритмического движения, мощного и свободного как полет, так что кажется, тело движет некая внешняя, надмирная сила. Никто не является больше чем-то отдельным — ни мысленно, ни физически. Широкий медленный ритм вызывает что-то вроде физического опьянения. Вокруг море людей, и кажется, что над его волнами звучит музыка. Музыка становится частью человека, и человек становится частью музыки. Тело, движущееся в унисон с другими телами, оказывается ее источником [172].
Творческое кредо Андерсона начиная с 1910-х гг. долгое время основывалось на идее, что способность «производить музыку» идет не от собственного, отдельно стоящего «я», а от принадлежности массе. В строю, каким бы он ни был, по мнению писателя, излечивается пагубная «болезнь себя», мешающая человеку познать глубинные, космические течения бытия; стирается собственное «эго», стоящее между живописцем и его полотном, поэтом и чистым листом бумаги. Представление о скрытой взаимосвязи человека и вселенной, о живительном для человека союзе или отождествлении себя с чем-то неизмеримо большим, чем он сам, заставит его не раз возвращаться к теме больших и малых человеческих групп. В 1930-х гг. Андерсон с особой энергией примется изучать заводы, фабрики и обслуживающие их коллективы рабочих, пытаясь в синхронном вращении механизмов и едином движении сотен рук уловить отзвук таинственного жизненного ритма. В конце 1930-х гг., однако, писателю представится случай увидеть роковые последствия воплощения в жизнь Гитлером идей, подобных его собственным. Лишенные того абстрактного гуманистического начала, которое в них вкладывал Андерсон, они примут на деле устрашающие формы. Массы немецких солдат, организованные, нерассуждающие, полные звериной жестокой силы, будут четко маршировать, растаптывая одну европейскую страну за другой. Оглядываясь назад в своих «Мемуарах», Андерсон скажет: «…когда фашизм пронесся по Европе, я отчетливо увидел, как подобное движение, однажды начатое, может отождествиться с государством. Когда я увидел воплощение своей мечты на деле, я испугался своей мечты». И добавит: «Люди, думается, все же должны идти в одиночку. Стремление людей, о котором здесь говорилось, слишком легко извратить. Демократические идеалы для людей в конечном счете безопаснее, чем моя мечта» [173].
Роман «В ногу!», со всей очевидностью продемонстрировавший богатые потенциальные возможности его автора и содержавший зародыши тем и мотивов будущих произведений, в то же время отчетливо заявил и о главной трагедии Андерсона — человека и художника. Эта трагедия заключалась в том, что разрыв Андерсона с прежней жизнью и профессией, определивший новые особенности его личности, легший в основу его легендарного образа и ставший для Андерсона ведущим творческим импульсом, в то же время прочно замкнул писателя в рамках связанной с этим разрывом стержневой темы и явился своеобразной ловушкой, роковым ограничителем его возможностей романиста.
Воспитанный в чинном XIX столетии и ставший свидетелем стремительных перемен в жизни США, Андерсон с грустью делал вывод, что страна перешагнула из идиллического детства во взрослое состояние с той гибельной быстротой, при которой утрата детской невинности произошла самым резким и драматическим образом. Истоки дегуманизации американской жизни, вынуждающей человека бежать от своего окружения, писатель в первую очередь видел в обрушившемся на страну тотальном индустриализме. Индустриализация принесла с собой дух наживы и холодного прагматизма. Америка, так и не достигнувшая необходимой внутренней зрелости, окунулась во «взрослую» жизнь, бросившись очертя голову в погоню за новейшими материальными благами. В своих произведениях писатель снова и снова делает ударение на том, что прежние нравственные ценности могли бы остаться незатронутыми, если бы технологический прогресс не заставил людей искать внешних выгод и преимуществ, вместо того чтобы обратиться внутрь себя, укрепляя духовную связь с Природой и Почвой (панацея, в художественной форме предложенная в свое время близкими Андерсону авторами — Эмерсоном, Уитменом, Торо).
В разной степени проявляясь практически во всех его произведениях, стремление писателя к «простоте и реальности» сказалось в романе «В ногу!» со всей полнотой, приняв крайнюю, категорическую форму открытого воспевания антиинтеллектуализма, прославления массового марша, в котором физическое, инстинктивное начало ставится на место мыслительного, разумного.
Творческая система Андерсона отрицала художественную усложненность: писатель был убежден, что она делает даже мастерски выполненное произведение холодным, бесцветным и сухим. Образцом прозаика-интеллектуала, виртуозно владеющего своим ремеслом, но начисто лишенного живого эмоционального начала, стал для Андерсона Генри Джеймс, с книгами которого он впервые познакомился в 1923 г. благодаря своему нью-йоркскому знакомому, критику Ван Уик Бруксу. «Тебе, я полагаю, интересно мое ощущение после нескольких серьезных недель, проведенных за чтением Джеймса, — пишет Андерсон Бруксу в июле 1923 г., — мне кажется, что это человек, который никого никогда не любил, у которого не хватало духа любить. Мне действительно наплевать на любого из его героев, после того как он с ним покончил, — он, одним словом, и меня самого лишает любви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
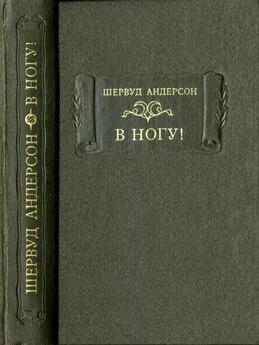

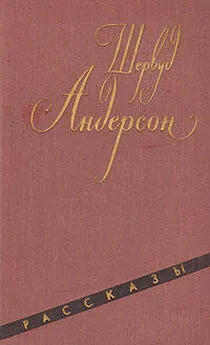
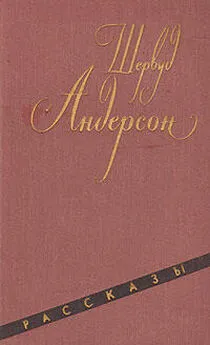
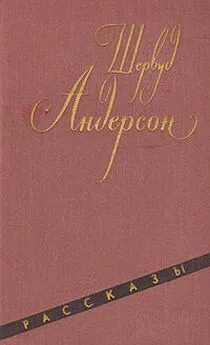
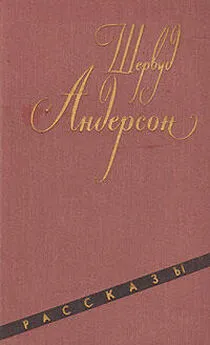
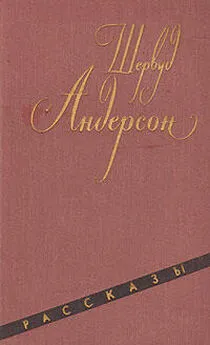
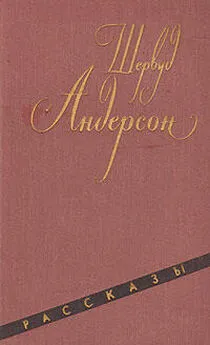
![Шервуд Андерсон - Кони и люди [сборник litres]](/books/1069972/shervud-anderson-koni-i-lyudi-sbornik-litres.webp)