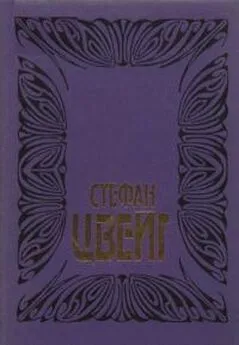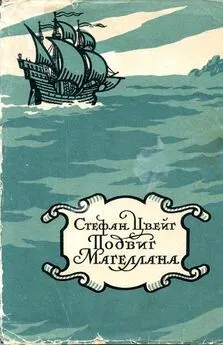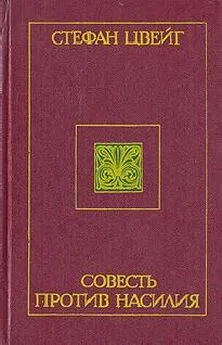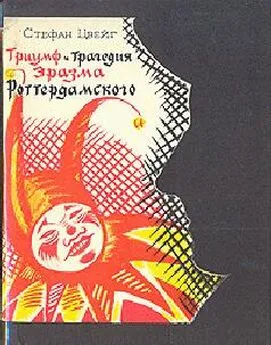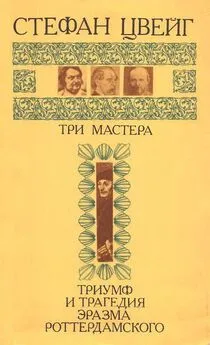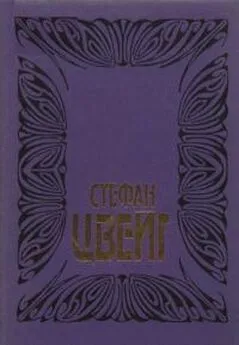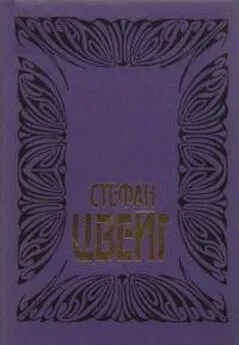Стефан Цвейг - Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень
- Название:Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00446-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень краткое содержание
В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».
Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И я тоже понял и оценил мудрость и величие Монтеня лишь в зрелом возрасте, когда жизнь меня достаточно потрепала. Когда, двадцатилетний, я впервые взял в руки его «Опыты», единственную написанную им книгу, то, честно говоря, не знал, что мне с ней делать. Правда, я был подготовлен в искусстве достаточно хорошо, чтобы почтительно признать в авторе интересную личность, необыкновенно прозорливого и проницательного, безусловно достойного любви человека, и кроме того, художника, способного каждой фразе, каждому выражению дать индивидуальную, присущую только ему форму.
Но мой интерес был интересом чисто литературным, радостью библиофила, при общении с писателем не произошло внутреннего воспламенения, не возник страстный восторг, не проскочила от души к душе искра.
Уже сама тематика «Опытов» казалась мне довольно странной и в большей своей части далекой от моих духовных интересов. Какое отношение имели ко мне, молодому человеку двадцатого столетия, обширные экскурсы Sieur de [258] ♦Господина (фр.).
Монтеня относительно «Сérémonie de l’entrevue des rois» или его «Considerations sur Cicero» [259] «Церемониала при встрече царствующих особ», «Рассуждений о Цицероне» (кн. I, главы XIII и X) (фр.).
?
Каким доктринерским и несовременным казался мне его сильно побуревший от времени французский, нашпигованный вдобавок латинскими цитатами. Да и собственно к его мягкой, успокаивающей мудрости я не испытывал никакого влечения. Эта мудрость пришла ко мне слишком рано. Что значили для молодого человека умные предостережения Монтеня — не нужно хлопотать тщеславия ради, не следует очень уж страстно вмешиваться в дела окружающего мира. Что значили его успокаивающие наставления, призывы к умеренности и терпимости для неуемного возраста, не желающего расставаться с иллюзиями и успокоиться, а неосознанно стремящегося лишь усилить свои жизненные порывы?
Юности свойственно желание советоваться не с умеренностью, не со скепсисом. Любое сомнение становится для нее препятствием, так как для проявления своих внутренних сил ей нужны вера и идеалы. И даже самая крайняя, самая абсурдная иллюзия, если она эту юность вдохновляет, становится важнее, чем самая возвышенная мудрость, ослабляющая ее.
И еще — не казалось ли нам в начале века, что та свобода личности, энергичнейшим глашатаем которой для всех времен стал Монтень, совсем не требует такой уж упорной защиты? Не стала ли свобода личности уже давно само собой разумеющимся достоянием человечества, гарантированным законами и обычаями, давно освобожденной от диктатуры и рабства?
Право на нашу собственную жизнь, на собственные мысли и свободное их высказывание, публично и в печати, представлялось естественно принадлежащим нам, как дыхание, как биение нашего сердца. Перед нами лежали открытые страны, весь мир, мы не были ни пленниками государства, ни рабами военной службы, ни невольниками произвола тиранических идеологий. Никому не угрожала опасность, людей не преследовали, не сажали в тюрьмы, не объявляли вне закона, не изгоняли из своей страны, не презирали.
Поэтому нам казалось, что Монтень напрасно бряцает цепями, ведь мы считали, что они давно разорваны, и не подозревали, что судьба вновь выковала нам их, более крепкие, более ужасные, чем те. И мы славили и почитали борьбу Монтеня за свободу души как факт исторический, давно ставший нам ненужным и не имеющим значения. Ибо одним из таинственных законов жизни является то, что ее истинные и существеннейшие ценности мы всегда начинаем ценить слишком поздно: юность — когда она проходит, здоровье — когда оно покинуло нас, и свободу, эту драгоценнейшую сущность нашей души, — лишь в момент, когда ее у нас собираются отнять, или когда она уже отнята.
Таким образом, чтобы понять искусство жизни по Монте-ню, чтобы понять его жизненную мудрость, чтобы осознать, что его борьба за «soi-même» [260] Самого себя (фр.).
— это настоятельнейшая необходимость, диктуемая потребностями духовного мира человека, нам следовало оказаться в ситуации, подобной той, в какой находился он. И мы, подобно ему, должны были после эпохи прекрасного расцвета мира попасть в мрачное средневековье, нас насильно изолировали, поставили в положение, когда человеку в конечном счете остается защищать лишь свое обнаженное «я», свою единственную, неповторимую личность. Лишь при этом возникшем братстве судеб Монтень стал мне незаменимым покровителем, утешителем и другом, ибо как отчаянно подобна его судьба нашим судьбам!
Когда Мишель Монтень вступил в жизнь, стали угасать великие надежды на гуманизацию мира, подобное же испытали и мы в начале нашего столетия. На протяжении жизни одного-единственного поколения Возрождение своими художниками, скульпторами, поэтами, учеными осчастливило человечество новой, совершенной, бесподобной красотой. Казалось, целый век, нет, сотни лет, творческая сила медленно, методично, ступень за ступенью, волна за волной наступала на темное, хаотичное бытие, несла людям божественное начало.
И мир вдруг, разом стал широким, полным и богатым. Вместе с латинским, с греческим языками ученые вернули людям из древности мудрость Платона и Аристотеля. Гуманизм, и прежде всего Эразм, обещал единую, космополитическую культуру; казалось, Реформация основала новую свободу веры при новой широте знаний.
Исчезли границы между народами, так как только что изобретенное книгопечатание дало возможность окрылённо распространяться каждому слову, каждому мнению; дарованное одному народу, похоже, отныне стало принадлежать всем народам, люди поверили, что единства достичь можно не кровавыми распрями королей и князей, не силой оружия, а с помощью и благодаря духовному общению.
Произошло еще одно чудо: одновременно с духовным совершенно неожиданно расширился и земной мир. В до сих пор безбрежном океане возникли новые берега новых стран, гигантский континент обещал родину поколениям и поколениям. Быстрее стало кровообращение торговли, богатства потекли в старые европейские страны и принесли роскошь, а роскошь стимулировала строительство замечательных зданий, творчество художников, скульпторов, возникал прекрасный одухотворенный мир.
Но когда пространство расширяется, обязательно расправляется и душа. Подобное произошло и в наше время на грани двух веков — завоевание эфира самолетами и невидимыми волнами, переносящими слово из страны в страну, сказочно расширило пространство, физика и химия, техника и наука вырывали одну за другой тайны у природы, заставляя служить их людям, несказанные надежды вновь вдохновили так часто разочаровывающееся человечество, и из тысяч душ вырвался клич, вторящий ликующему возгласу Ульриха фон Гуттена: «Какая радость жить!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: