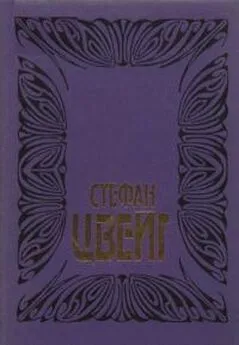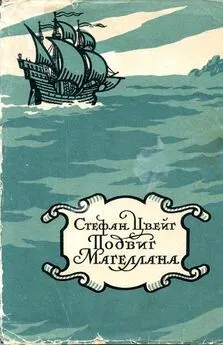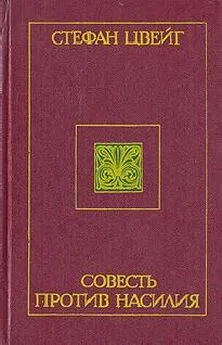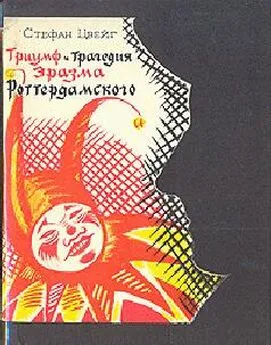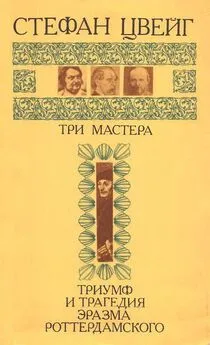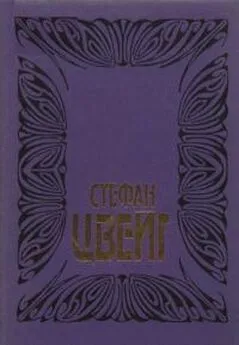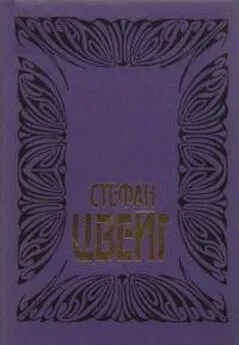Стефан Цвейг - Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень
- Название:Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00446-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень краткое содержание
В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».
Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Горячечным, сжигаемым своим духом, легко приходящим в экстаз выглядит Кальвин на портретах, и можно, пожалуй, посочувствовать этому очень усталому, находящемуся в состоянии крайнего возбуждения, разрываемому своей страстностью человеку; но внезапно ужасаешься, переведя взгляд ниже, увидев руки Кальвина, зловещие руки алчного человека, худые, костлявые, бесцветные руки, готовые холодно, железной хваткой, словно когтями, схватить все, что могут ухватить, и, уж коли захватили, сумеют яростно удержать своими жесткими, жадными суставами.
Невозможно себе представить, чтобы эти костлявые руки когда-нибудь могли нежно держать цветок, ласкать теплое тело женщины, чтобы были хоть раз сердечно и весело протянуты навстречу другу; это руки беспощадного человека, и достаточно только на них посмотреть, чтобы почувствовать ту грандиозную и страшную силу властвования и удержания власти, исходящую от Кальвина на протяжении всей его жизни.
Какое мрачное, неприветливое, какое одинокое, отталкивающее лицо у Кальвина! Непостижимо, чтобы кто-либо захотел иметь в своей комнате на стене портрет этого неумолимо требующего и предостерегающего человека, сам воздух покажется холодным, лишь почувствуешь на себе неотступно следящий, поразительно недоброжелательный взгляд. Представляется, что Кальвина лучше всех нарисовал бы Сурбаран в испанско-фанатической манере, как он рисовал аскетов и анахоретов: темными красками на темном фоне, отрешенного от мира и живущего в пещере; перед ним Библия, обязательно Библия, и, пожалуй, еще череп или крест — единственные символы духовной и священнической жизни; вокруг же — холодное и черное, надменное одиночество.
Всю свою жизнь жил он в холодной атмосфере презрения к людям, атмосфере, изолирующей его от окружающего мира. С самой ранней юности он постоянно одевается в безжалостное черное. Черный берет на низком лбу, толи клобук монаха, то ли шлем ландскнехта, черная широкая, ниспадающая до башмаков мантия — одеяние судьи, постоянно наказывающего людей, одеяние врача, который вечно должен излечивать их души, их плоть от язв. Все черное, всегда черное, цвет суровости, цвет смерти и беспощадности. Едва ли кто-нибудь видел Кальвина иначе, чем в вызывающем страх священническом облачении, а он именно этого и хотел — чтобы его боялись, как слугу господнего, а не любили, как человека, как брата.
Но жестокий ко всему миру, он был жесток и к себе самому. Всю жизнь держал он свое тело в строжайшем повиновении, лишь самое необходимое для питания, для отдыха позволял он себе, всегда ради духовного пренебрегая плотским. Три часа, самое большее — четыре, для сна ночью, единственная в день скромная еда, да и то принятая наспех, при раскрытой Библии. Никаких прогулок, никаких игр, никакой радости, ни минуты разрядки, никогда никаких удовольствий; в конечном счете фанатически самоотверженный, Кальвин существовал только для религии — думал, писал, проповедовал, но ни часу не жил для себя.
Эта абсолютная бесчувственность, эта старость с рождения наиболее характерны для Кальвина; неудивительно, что именно он сам представлял собой наибольшую опасность для своего учения. Если другие реформаторы считают, что наиболее верно служат Богу, с благодарностью принимая от него все дары жизни, если все они, от рождения здоровые люди, радуются своему здоровью и наслаждаются им, если Цвингли, священник, имеет внебрачного ребенка, а Лютер однажды, смеясь, создал новую поговорку: «Хозяйка не позволит, позволит служанка», если они лихо чревоугодничают и бражничают, у Кальвина все чувственное либо совершенно подавлено, либо сохранилась лишь слабая его тень, едва заметные следы.
Как фанатичный интеллектуал, он полностью проявляется в духе и слове; лишь логически ясное для него истинно, лишь упорядоченное понимает он и терпит, а не выдающееся, не исключительное. Ничто пьянящее — ни вино, ни женщины, ни искусство — его совершенно не интересует, ни от каких Божьих даров земли этот фанатичный трезвенник не получает и не желает получать удовольствие. Когда в соответствии с требованиями Библии он решает жениться, сватовство происходит до комичного деловито и холодно, так, как если бы дело шло о приобретении книг или о покупке нового берета. Вместо того чтобы самому участвовать в смотринах, он поручает другу выбрать подходящую для него жену и при этом едва не попадает впросак: этому заклятому врагу чувственности сватают распутную особу; только чудом не связывает он себя с ней на всю жизнь.
Наконец этот человек, не верящий в радости жизни, женится на вдове обращенного им перекрещенца, но судьба не желает, чтобы он сделал кого-либо счастливым либо был счастлив сам. Зачатый с холодной страстью, их ребенок, с холодной кровью в жилах, оказывается (так и хочется сказать естественно) нежизнеспособным. Через несколько дней он умирает, вскоре умирает и жена; для тридцатишестилетнего вдовца с супружескими обязанностями покончено навсегда. До своей смерти, двадцать лучших лет мужчины, этот добровольный аскет, преданный только духовному, только религиозному, только своему учению, не коснется ни одной женщины.
Но, подобно духу, телу человека надо дать возможность расцвести, проявить свои силы, и страшно наказывает оно того, кто его насилует. Любой орган человеческого тела инстинктивно стремится проявиться возможно полнее там, где ему предопределено природой. Кровь время от времени желает двигаться быстрее, сердце — горячей биться, легкие — распираться от ликования, мускулы — двигаться интенсивнее, сперма — извергнуться, и тот, кто сознательно и постоянно сдерживает эти жизненные проявления, противится им, очень скоро почувствует, что эти органы восстали против него.
Страшна месть, которую тело уготовило своему поработителю: если этот аскет, этот деспот не желает замечать свои нервы, не считается с ними, нервы, чтобы показать, что они существуют, доставляют ему невыносимые страдания. Вероятно, мало кого из людей интеллекта так мучили всевозможнейшие телесные недуги, как Кальвина. Беспрерывно следует одна болезнь за другой, едва ли не в каждом письме Кальвин сообщает о новом вероломном нападении неожиданной болезни. То это мигрени, на несколько дней бросающие его в постель, то боли в желудке, головные боли, геморрой, колики, простуды, нервные судороги и кровоизлияния, камни в печени и карбункулы, то это перемежающаяся лихорадка или лихорадочный озноб, ревматизм или заболевание мочевого пузыря. Постоянно должны быть возле него врачи, чтобы тот или иной орган этого нежного, непрочного тела не вызвал в нем жестоких страданий. И, тяжело вздыхая, Кальвин напишет однажды: «Моя жизнь подобна непрерывному умиранию!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: