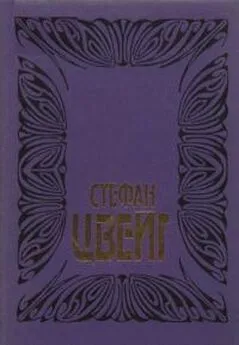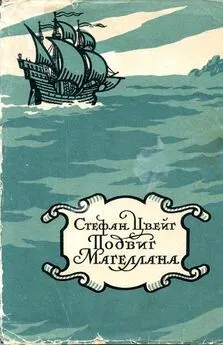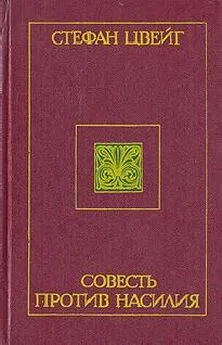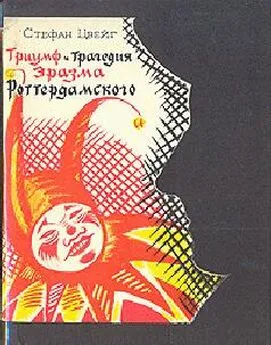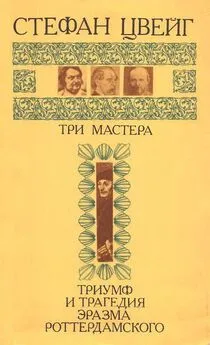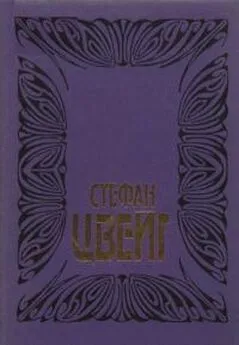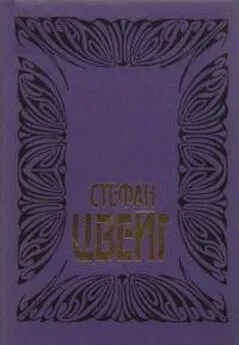Стефан Цвейг - Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень
- Название:Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00446-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень краткое содержание
В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».
Том 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
НАСИЛИЕ РАСПРАВЛЯЕТСЯ С СОВЕСТЬЮ
Мы мало знаем памфлетов, направленных против деспотии духа, второго же такого памфлета, как книга Кастеллио «Contra libellum Calvini», написанного с вдохновенной страстностью, с огромной силой убежденности в истинности защищаемых тезисов, возможно, не существует; правдивость книги, ее ясность должна была бы даже самым равнодушным людям своего времени показать, что свобода мысли протестантизма, а с ним и европейского духа будет утрачена навсегда, если человечество не сумеет защититься от женевской инквизиции мнений. Поэтому, казалось бы, следовало ожидать, что весь мир гуманистов единодушно присоединится к безупречным в своей убедительности аргументам обвинения, составленным Себастьяном Кастеллио. Манифест Кастеллио — смертельный удар по непримиримой ортодоксии Кальвина; кто этим ударом повален, тому, казалось бы, уже не подняться, с ним, казалось бы, покончено навсегда.
В действительности же ничего подобного не происходит. Блестящий памфлет Кастеллио, его пламенный призыв к терпимости не оказал ни малейшего влияния на реальный мир, причем по самой простой и ужасной причине: книга «Contra libellum Calvini» не была издана. По указанию Кальвина книга, не успев разбудить совесть Европы, была задушена цензурой.
В последний момент — уже в самых близких к автору кругах Базеля — когда книга ходила в списках и когда она была уже подготовлена к печати, женевские властители постарались, доносчики пронюхали, какую смертельную атаку на их авторитет готовит Кастеллио. И они ответили молниеносным ударом. Превосходство государственной машины, вступающей в единоборство с борцом-одиночкой, в подобных обстоятельствах проявляется с ужасающей силой. Подвластная Кальвину цензура позволяет ему беспрепятственно защитить свой бесчеловечный поступок — мучительное сожжение заживо человека, мыслящего иначе, чем он; Себастьяну Кастеллио же, от имени человечности выступившему с протестом против этой жестокой акции, в слове отказано.
У города Базеля, собственно, нет никаких оснований запретить литературную полемику свободному гражданину, преподавателю его университета, но Кальвин всегда тактически искусен в практике, он ловко пускает в ход все средства. В бой вводится артиллерия дипломатии; не Кальвин лично, не частное лицо, а город Женева поднимает ex officio [120] 3десь: официально (лапи).
жалобу против нападок на «учение». И эта жалоба ставит Совет города Базеля и его университет перед мучительным выбором — либо ущемить права свободного писателя, либо вступить в дипломатический конфликт с могучим союзным городом, и, как всегда в подобных случаях, насилие одерживает победу над моралью. Господа советники предпочитают пожертвовать одним человеком и запрещают публикацию любых, не строго ортодоксальных, сочинений. Тем самым предотвращается выход в свет книги Кастеллио «Contra libellum Calvini», и Кальвин может ликовать: «Какое счастье, что собаки, которые так облаивают нас, не могут укусить» (II va bien que les chiens qui aboient derridre nous ne nous peuvent mordre).
Подобно тому как Сервета заставил молчать костер, Себастьяна Кастеллио заставила стать немым цензура; еще раз на земле «авторитет» был спасен с помощью террора. У Кастеллио перебита рука, которой он держал свое оружие, он не может более писать и, что более несправедливо, более ужасно, — он не может защищаться, когда торжествующий противник нападает на него с удвоенной яростью. Пройдет едва ли не сто лет, прежде чем «Contra libellum Calvini» будет издана: ужасной истиной оказались пророческие слова Кастеллио: «Почему же с другими ты поступаешь так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой другие? Мы решаем вопросы веры, почему же ты затыкаешь нам рты?»
Но против террора право бессильно. Там, где царит насилие, побежденный не может ни к кому апеллировать, там террор — первая и последняя инстанция. Трагически разочарованный Кастеллио должен примириться, снести бесправие, но для всех тех времен, в которые насилие попирает дух, остается утешительным суверенное презрение побежденных к насилию. «Ваши слова и ваше оружие присущи той деспотии, о которой вы грезите, деспотии — этого не духовного, а политического господства, основанного не на любви Бога, а на принуждении. Я не завидую вашей мощи и вашему оружию. У меня другое оружие — истина, чувство невиновности и имя Того, Кто помогает мне и дает мне милость. И даже если на какое-то время мир, этот слепой судия, и подавит истину, то все равно никто над истиной власти не имеет. Приговор мира, убившего Христа, мы не принимаем, мы не подвластны суду, на котором всегда выигрывают только насильники. Истинное Государство Божье — не на этом свете».
Еще раз террор оказался прав, причем особенно трагическим образом: власть Кальвина после содеянного им гнусного поступка не пошатнулась, но — что удивительно — усилилась. Бесполезно искать у Истории набожную мораль и трогательную справедливость хрестоматий! Следует знать и довольствоваться тем, что действия Истории, этой земной тени мирового духа, ни моральны, ни аморальны. Она не наказывает за преступления, не вознаграждает за добро. А поскольку она в конечном счете опирается не на право, а на насилие, она все внешне положительное чаще всего приписывает людям власти, а безудержная смелость и жестокие решения, принимаемые в битве времени, служат преступникам и злодеям скорее на пользу, чем во вред.
И Кальвин, обвиненный в жестокости, понял, что спасти его может только одно — еще большая жестокость, еще более беспощадное насилие. Всегда действует один и тот же закон, в соответствии с которым однажды применивший насилие должен снова к нему прибегнуть, начавший с террора обязательно должен его непрерывно усиливать. Сопротивление, оказанное Кальвину во время процесса Сервета и после него, еще больше укрепило его в уверенности, что для сохранения авторитарного господства нельзя ограничиваться подавлением и запугиванием лагеря противника, действуя лишь в рамках закона.
Первоначально Кальвин довольствовался тем, что легальными путями парализовал республиканское меньшинство женевского Совета, постепенно и незаметно изменив в свою пользу порядок выборов. В каждом общинном Совете заседали прибывшие из Франции протестантские эмигранты, в моральном и материальном отношениях зависящие от Кальвина, ставшие женевскими гражданами и поэтому включенные в списки избирателей; таким образом, настроение и мнение Совета стали постепенно склоняться все более и более в пользу Кальвина, все должности магистрата заняли слепо подчиненные ему люди, и старые республиканские патриции оказались полностью оттесненными от власти.
Но вскоре патриоты-женевцы заметили эту тенденцию к увеличению засилья иностранцев; поздно, поздно демократы, проливавшие некогда кровь за свободу Женевы, начинают проявлять беспокойство. Они тайно встречаются, они советуются, как защитить последние остатки их старой независимости от властолюбия пуритан. Растет недовольство. Дело доходит до горячих споров между старожилами и новыми гражданами города и, наконец, — до уличной драки, впрочем, достаточно безобидной, — в ней пострадало от брошенных камней всего два человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: