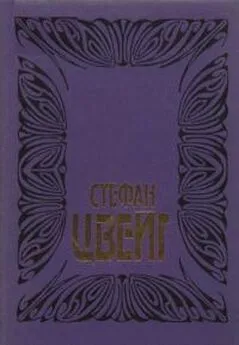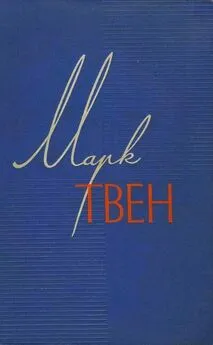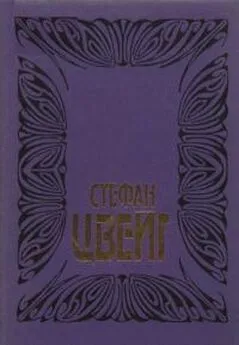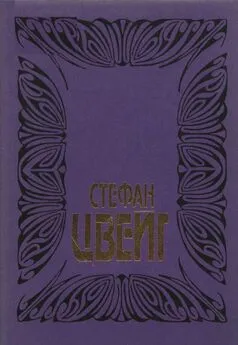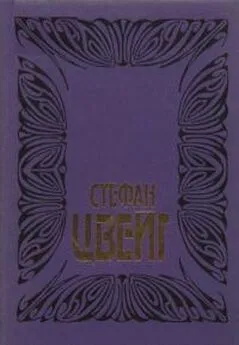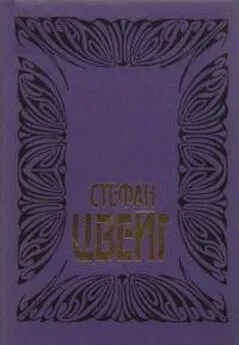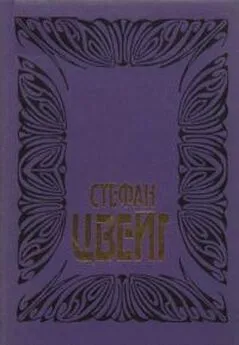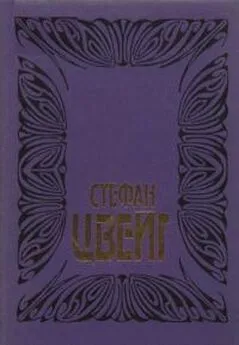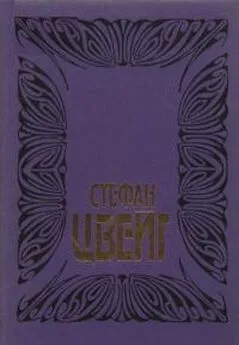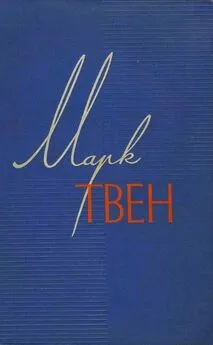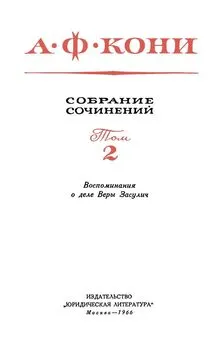Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений. Том 8: Мария Стюарт; Вчерашний мир: Воспоминания европейца
- Название:Цвейг С. Собрание сочинений. Том 8: Мария Стюарт; Вчерашний мир: Воспоминания европейца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00434-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений. Том 8: Мария Стюарт; Вчерашний мир: Воспоминания европейца краткое содержание
В восьмой том Собрания сочинений вошли произведения: «Мария Стюарт» — романизированная биография несчастной шотландской королевы и «Вчерашний мир» — воспоминания, в которых С. Цвейг рисует широкую панораму политической и культурной жизни Европы конца XIX — первой половины XX века.
Цвейг С. Собрание сочинений. Том 8: Мария Стюарт; Вчерашний мир: Воспоминания европейца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В глубине души, таким образом, я уверенно чувствовал себя гражданином мира; труднее было избрать правильное поведение как гражданину государства. Хотя мне было уже тридцать два года, я до того не имел никаких воинских обязанностей, так как на всех освидетельствованиях признавался негодным, чему в свое время был чрезвычайно рад. Ибо, во-первых, эта отставка сберегла мне год жизни, который пришлось бы убить на тупую муштру, кроме того, мне казалось
преступным анахронизмом — в двадцатом столетии упражняться в овладении орудиями умерщвления.
Самым верным для человека моих убеждений было бы объявить себя во время войны «conscientious objector» [152] Сторонником противоположных убеждений (лат.).
, что в Австрии (в противоположность Англии) грозило самыми тяжелыми наказаниями и потребовало бы стойкости души настоящего мученика. Но моей натуре — я не стыжусь открыто признать этот недостаток — не свойственно героическое. Мне всегда было присуще во всех опасных ситуациях уклончивое поведение, и не только в этом случае я должен, возможно, принять обвинение в нерешительности, которое так часто предъявляли моему уважаемому учителю в другом столетии — Эразму Роттердамскому.
С другой стороны, в такое время относительно молодому человеку было невыносимо ждать, пока тебя не извлекут на свет Божий и не упекут в этакое место, где тебе будет совсем уж тошно. Поэтому я подыскивал занятие, которое приносило бы определенную пользу, но не отнимало бы без остатка все время, и то, что один из моих друзей был высшим офицером в военном архиве, помогло мне получить там место. Я должен был работать в библиотеке, где мог быть полезен своим знанием языков, или редактировать некоторые предназначенные для общественности материалы — деятельность, разумеется, не слишком доблестная, что я охотно признаю, но все же такая, которая мне лично показалась более подходящей, чем вонзать русскому крестьянину штык в кишки. Однако решающим было то обстоятельство, что у меня оставалось время после этой не очень обременительной службы для той работы, которая была для меня в этой войне наиважнейшей: способствовать будущему взаимопониманию.
Более трудным оказалось мое положение среди моих венских друзей. Мало знавшие Европу, безоговорочно принимавшие лишь все немецкое, большинство наших поэтов считали, что поступают правильнее всего, усиливая воодушевление масс и поэтическими призывами или научными трудами подводя фундамент под мнимые достоинства войны. Почти все немецкие писатели, во главе с Гауптманом и Демелем, считали своим долгом, точно во времена древних германцев, распалять до исступления, по примеру бардов, атакующих воинов песнями и рунами. Дюжинами, словно ливень, лились стихи, в которых рифмовались «беды» и «победы», «сраженье» и «пораженье», «сметь» и «смерть». Торжественно клялись писатели, что никогда в будущем не будут иметь ничего общего ни с французами, ни с англичанами в (власти культуры, и даже больше: они буквально в одну ночь решили, что ни английской, ни французской культуры вообще никогда не существовало. Вся их культура ничтожна и ничего не стоит по сравнению с немецкой основательностью, немецким искусством и немецким характером.
Еще хуже обстояло с учеными. Философы не нашли ничего умнее, как объявить войну «железной купелью», которая благотворно воздействует на силы народа. Им на помощь спешили врачи, которые столь рьяно расхваливали свои протезы, что даже возникало желание ампутировать себе здоровую ногу и заменить ее таким вот искусственным штативом. Жрецы всех вероисповеданий тоже не желали оставаться в стороне и влились в общий хор; иногда казалось, что перед тобой беснующаяся толпа, хотя это были те же самые люди, чьим разумом, чьей творческой энергией, чьими поступками мы восхищались еще неделю, месяц тому назад.
Самым потрясающим в этом безумстве было, однако, то, что большинство этих людей были искренни. Многие слишком старые или немощные для воинской службы считали, что должны внести свой вклад. Всем, что они создали, они обязаны языку, а значит — народу. Таким образом, они желали служить своему народу словом и дать ему услышать то, что он желал слышать: что в этой борьбе правда только на его стороне, а неправда на другой, что Германия победит, а неприятель потерпит позорное поражение, совершенно не подозревая, что тем самым они предают истинное назначение поэта — быть хранителем и защитником всего человеческого в человеке. Когда туман воодушевления рассеялся, некоторые, разумеется, вскоре ощутили на языке горький привкус своего собственного слова. Но в те первые месяцы больше всего слушали тех, кто драл глотку шибче других, а они голосили и горланили в диком хоре по ту и другую сторону.
Самым типичным, самым ошеломляющим примером такого неподдельного и в то же время безрассудного экстаза был для меня Лиссауэр. Я его хорошо знал. Он писал небольшие, немногословные, строгие стихи и при этом был добродушнейшим человеком, какого только можно себе представить. И по сей день помню, с каким трудом я сдержал улыбку, когда он пожаловал ко мне впервые. По его предельно сжатым, по-немецки крепким стихам я невольно представлял себе этого поэта стройным, подтянутым молодым человеком. Но вот в мою комнату вкатился круглый, как бочонок, добродушное лицо над двойным подбородком с ямочкой, коротышка, распираемый бьющими в нем ключом энтузиазмом и честолюбием, буквально захлебывающийся словами, одержимый стихами и исполненный решимости сокрушить любые силы, которые могли бы помешать ему опять и опять цитировать и читать свои вирши. При всем комизме его все же нельзя было не полюбить: он был добр, отзывчив и беспредельно предан своему искусству.
Он происходил из состоятельной немецкой семьи, учился в гимназии Фридриха Вильгельма в Берлине и был, возможно, самым прусским из всех ассимилировавшихся в Пруссии евреев, каких я знал. Он не говорил ни на каком другом языке, он никогда не выезжал за границу. Германия была для него миром, и чем больше немецкого было в чем-то, тем больше оно его вдохновляло. Йорк, и Лютер, и Штейн были его героями, война за освобождение Германии — его любимой темой, Бах — его музыкальным Богом; он играл его великолепно, несмотря на свои маленькие, короткие, некрасивые, толстые пальцы. Никто не знал немецкую литературу лучше, никто более, чем он, не был влюблен в немецкий язык, более им очарован; как многие евреи, чьи семьи влились в немецкую культуру сравнительно недавно, он верил в Германию больше, чем самый ортодоксальный немец.
А когда разразилась война, первое, что он сделал, — поспешил в казармы, чтобы записаться добровольцем. И могу себе представить хохот фельдфебелей и ефрейторов, когда эта туша, пыхтя, взбиралась по лестнице. Они его тотчас отправили обратно. Лиссауэр был в отчаянии, тогда он решил служить Германии хотя бы стихами. Все, что сообщали немецкие газеты и оперативные сводки главного командования, для него было чистейшей правдой. На его страну напали, а самый ужасный преступник (совсем в духе инсценировки на Вильгельм-штрассе) — это подлый лорд Грей, английский министр иностранных дел. Свое убеждение, что Англия — главный виновник в этой войне против Германии, он выразил в стихотворение «Гимн ненависти к Англии» — у меня его нет перед собой, — которое в суровых, немногословных, впечатляющих стихах поднимало ненависть до вечной клятвы никогда не простить Англии ее «преступления».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: