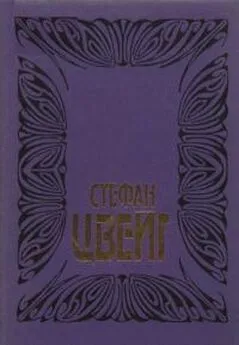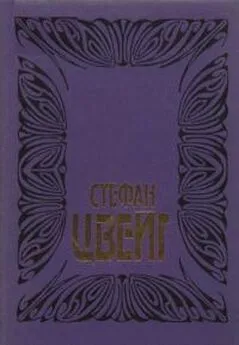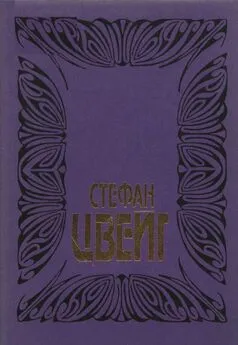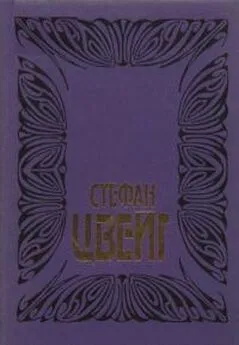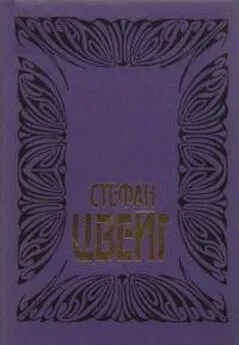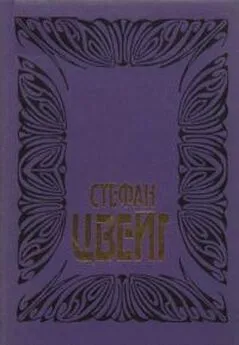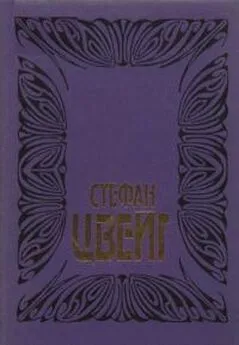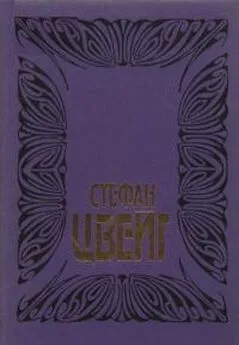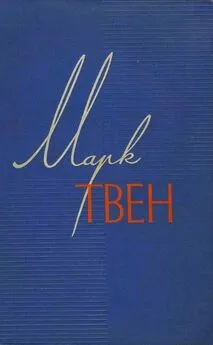Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений. Том 7: Марселина Деборд-Вальмор: Судьба поэтессы; Мария Антуанетта: Портрет ординарного характера
- Название:Цвейг С. Собрание сочинений. Том 7: Марселина Деборд-Вальмор: Судьба поэтессы; Мария Антуанетта: Портрет ординарного характера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00433-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений. Том 7: Марселина Деборд-Вальмор: Судьба поэтессы; Мария Антуанетта: Портрет ординарного характера краткое содержание
В седьмой том Собрания сочинений С. Цвейга вошли критико-биографические исследования «Марселина Деборд-Вальмор» и «Мария Антуанетта» — психологический портрет королевы на фоне событий Великой французской революции.
Цвейг С. Собрание сочинений. Том 7: Марселина Деборд-Вальмор: Судьба поэтессы; Мария Антуанетта: Портрет ординарного характера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ОБОЛЬСТИТЕЛЬ
Mon secret c’est un nom [33] Моя тайна — имя (фр.).
.
Музыка разомкнула уста ее муке. Каждое легчайшее биение ее сердца стало строфой, каждый взлет и каждый упадок чувства она всю свою жизнь, и притом всегда в пламенный миг переживания, исповедовала лирически. Нагим и непокрытым отдавала она ветру мира каждый трепет своей страсти, каждый позор своей души, но до смертного часа ее губы оставались неумолимо замкнутыми, когда дело касалось имени, имени того человека, который пробудил в ней эту бурю. Она выдала о себе все. Но не его, который ее предал.
Вот уже пятьдесят лет, как история французской литературы тщетно гонится за этой единственной тайной Марселины, Сент-Бев, ее друг и доверенный, впереди всех. Авторы диссертаций и комментариев рыщут по всем ее путям в поисках жизнеописаний, чтобы где-нибудь напасть на имя этого Оливье. Сквозь свет и тьму, сквозь многообразно цветущие заросли ее стихов вся эта стая кидается на каждый след, нечаянно оставленный ею в пути. Они обнюхивают каждый вздох, они откапывают каждую упавшую слезу. Но, удивительным и почти непостижимым образом, ее смиренная воля, глубокая стыдливость ее молчания и пиетет ближайших родственников до сих пор оказываются сильнее, чем их суетные старания.
Никаким другим именем его по-прежнему нельзя назвать, как Оливье, тем именем, которое она ему дает в своих стихах и с которым она к нему обращается в двух дошедших до нас любовных письмах. Через семьдесят лет — библейский век — после ее смерти тайна все так же глубока и неразгаданна, как в любой час ее жизни.
То немногое, что удалось о нем выведать, мы знаем от нее же самой, поведавшей свою страсть в стихах. Одна строка свидетельствует, что он был поэт, уже рано известный в ближайшем кругу; в другом месте устанавливается его возраст, а именно, что он был на три года моложе ее; многие строфы славят его удивительный, нежный, проникновенный голос, который ее вновь и вновь опьянял; а в письмах говорится, что он поехал в Италию и там заболел. Но самое примечательное указание, которое, при установлении личности, должно иметь решающую силу, дано в одном стихотворении. Там сказано, что в их именах имеется одно общее. Она говорит:
Tom nom...
Tu safe que dans топ пот le ciel daigna l'écrirе [34] Твое имя... Ты знаешь, что небу угодно было вписать его в мое (фр.).
,
и затем еще раз:
On ne peut m’appeler sans te jeter vers moi,
Car depuis mon bapt6me il m’enlace avec toi [35] Меня нельзя назвать, не бросив тебя ко мне, потому что со дня моего крещения оно связывает меня с тобою (фр.)
.
Легко себе представить, как жадно вся эта стая кинулась разведывать в этом направлении. Marceline, Félicité, Josèphe — таковы три ее имени, и таким образом, в шараде второго имени должно было встретиться одно из них. Это и некоторые иные отдаленные доказательства склонили большинство к тому, чтобы считать ее избранником Анри де Латуша. В имени Hyacinthe-Joseph-Alexandre Thabaud de Latouche Жозеф служит соединительным звеном к имени Марселины, призвание его также отвечает искомым признакам, ибо он был поэтом и уже в то время довольно видным, и даже третье обстоятельство неоспоримо, а именно то, что, молодым человеком, он два года провел в Италии и что Жорж Санд восхваляет его «мягкий и проникновенный» голос. Сент-Бев, любопытный и нескромный в делах любви (это он преждевременно огласил письма Мюссе, доверенные ему Жорж Санд), хотел и тут снискать дешевую славу человека, который первый, еще при жизни Марселины, выведал ее тайну. Он желал удостовериться и для этого прибег к хитрости, которую нельзя назвать особенно благородной: злоупотребляя тем, что ему было известно от одного приятеля ее лучшей подруги, который намекал на Латуша, как на предполагаемого любовника Марселины, он поспешил воспользоваться смертью Латуша, чтобы обратиться к Марселине с иезуитски искусным письмом, где (как будто он и сам не знавал его коротко) он спрашивал у нее сведений о его характере. Он втайне надеялся, что на этот робкий стук она распахнет все двери своего сердца, что эта прямодушная, героическая и порывистая женщина проронит хоть в какой-нибудь строчке более или менее откровенное признание в своем давнишнем чувстве.
И Марселина Деборд-Вальмор, эта удивительная душа, не задумывается прочесть реквием над человеком, который когда-то был деятельным поборником ее стихов и раздобыл ей первого издателя. Ее письмо, памятник человечности и восхитительной доброты, сохранилось по сей день, и мы можем прочесть его здесь. Для исследователей-психологов оно является последним и решающим доказательством, ибо Марселина, охваченная прекрасным и трудно сдерживаемым волнением, хоть и говорит здесь о Латуше с суровостью и раздражением, но укоряет, скорее, собственное свое чувство и с мольбой простирает к Сент-Беву руки, чтобы удержать его от строгого приговора. Она рисует все, что было опасного в Латуше, этом циничном человеке, личному творчеству которого мешал избыток остроумия и иронии; но и в отрицательном она находит заслугу, хваля его за то, что он далеко не причинил всего того зла, какое мог, и его тайная мука, по ее словам, щедро искупает все те слезы, в которых он повинен. Книжным ученым и дилетантам сердца эти слова о слезах, в которых он повинен, кажутся достаточным доказательством. Как палачи, они, ликуя, подслушали этот заглушенный крик, и с тех пор в доброй дюжине книг не умолкают шепот и шушуканье: Латуш, Латуш.
В самом деле: видимые доводы тяжело ложатся на чашу весов. Но на другую чашу падает безмерный груз и вновь поднимает кверху мутный балласт догадок и вероятностей. И этот груз — сама личность Марселины Деборд-Вальмор, чьи человеческие свойства скованы и одушевлены беспримерной и почти грозно повышенной прямотой и правдивостью. Едва ли мыслимо считать ее способной на такой жалкий обман, как ввести этого человека, будто чужого, в дом к Вальмору, своему мужу, который знал ее прошлое из ее слов, писем и стихов и видел в Брюсселе могилу ее добрачного ребенка. И трудно допустить, чтобы она, такая чуждая всякому притворству, могла вдруг унизиться в своих письмах к Латушу до смиренной и учтивой почтительности, она, писавшая Оливье самые пламенные и самые безудержные во всей французской лирике стихи и слова. Тайна ее ясного сердца здесь так же доказательна, как и все доводы разума.
Но если действительно, как все настойчивее, следуя голословной молве, утверждают исследователи, этим «Оливье» был Латуш, тогда эта трагедия обольщенной девушки служит лишь вступлением к другой, еще более жестокой трагедии, трагедии матери, и ничего смелее и более жестокого не отважился бы измыслить ни один роман. Ибо этот Латуш, который, на двадцать втором году жизни, был знаком с Марсели-ной и исправлял орфографические ошибки в ее ранних стихах, ведь это — чудовищная мысль! — тот самый, который, под маской благородного и сострадательного друга семьи, двадцать пять лет спустя пытается обольстить Ондину, дочь Мар-селины, и та (ее письма трепещут от ужаса) лишь с трудом защищает ее от него. Чтобы тот самый Латуш, которому она тайно родила сына, похороненного на кладбище под чужим именем, чтобы он, четверть века спустя, замыслил соблазнить ее дочь, — это такое представление, которое мое чувство почти отказывается воспринять. Правда, тогдашние ее письма к мужу, который гостил у Латуша, полны отчаянных предостерегающих криков. И действительно, может ли для матери быть что-нибудь ужаснее, чем мысль о том, что ее родное дитя готово стать жертвой того самого человека, что и она когда-то? Правда, она заставляет своего мужа потребовать у Латуша обратно ее давний портрет. Но откуда у нее, у незлопамятной, этот гнев через двадцать лет, откуда эта запоздалая осторожность у всегда беспечной? Вопреки всем приведенным предположениям, мое чувство невольно отстраняет этого Латуша, и именно его, пока какой-нибудь случай не принесет, взамен намеков, решающего доказательства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: