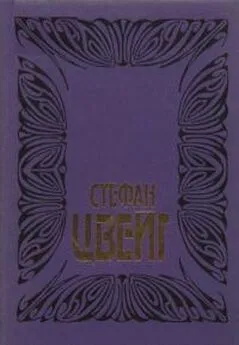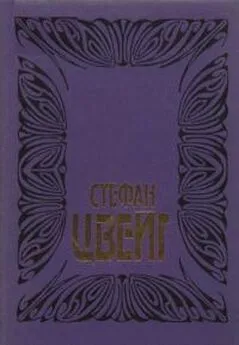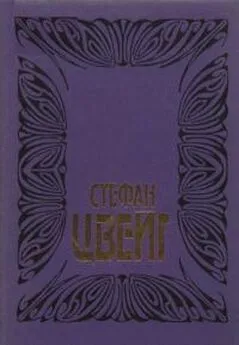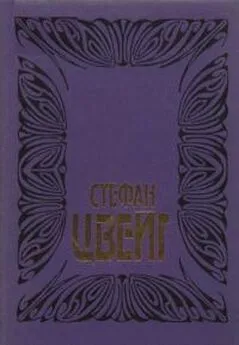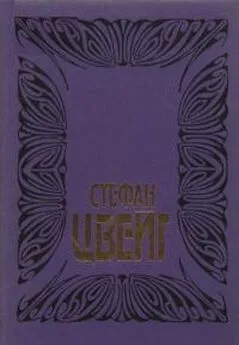Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5
- Название:Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00431-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5 краткое содержание
В пятый том Собрания сочинений вошли биографические повести «Борьба с безумием: Гёльдерлин, Клейст Ницше» и «Ромен Роллан. Жизнь и творчество», а также речь к шестидесятилетию Ромена Роллана.
Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Всякое насилие мне ненавистно, — пишет Роллан в те решительные времена Жуву, — если мир не может обойтись без насилия, мой долг не заключать с ними соглашение, а выставить другой, противоположный принцип, уничтожающий тот. Каждому своя роль, каждый да будет послушен своему богу». Ни на одну минуту он не скрывает от себя, как трудна борьба, которую он затевает, но слово юности еще звучит в его груди: «Наш основной долг быть великим и защищать величие на земле».
Опять, как в былое время, когда он своими драмами хотел вернуть народу веру, когда он возвысил образ героев над ничтожным временем, когда он в работе молчаливого десятилетия призывал людей к любви и к свободе, — опять он начинает в одиночестве. Нет вокруг него партии, нет в его распоряжении газеты, нет власти. У него нет ничего, кроме его страсти и чудесного мужества, для которого безнадежность не острастка, а побуждение. Одиноко вступает он в борьбу с безумием миллионов. И в этот миг европейская совесть — ненавистью и насмешкой изгнанная из всех стран и сердец — живет только в его груди.
МАНИФЕСТЫ
Форма его борьбы — газетные статьи; чтобы восстать против лжи и ее публичного выражения — фразы, Роллан должен отыскать ее на ее собственном поле сражения. Но интенсивность его идей, сила убеждения, авторитетность имени превращают эти статьи в воззвания, которые облетают Европу и зажигают огромный духовный пожар. Словно электрические искры бегут они по незримым проводам здесь — производя ужасные взрывы ненависти, там — ярко освещая глубины свободной совести и везде порождая тепло и вызывая возбуждение в самых крайних формах гнева и восторга. Никогда быть может газетные статьи не оказывали столь бурного, зажигательного и очищающего действия, как два десятка призывов и манифестов одной единственной свободной, светлой личности среди раболепной, смятенной эпохи.
В художественном отношении их, разумеется, нельзя сравнить с его обдуманными, отделанными, музыкально построенными произведениями. Рассчитанные на самые широкие круги, втиснутые в рамки цензуры (для Роллана было важнее всего, чтобы статьи, которые он опубликовал в «Journal de Geneve», читались и на его родине), они должны были развивать мысли осторожно и вместе с тем поспешно. Они содержали чудесные, незабвенные призывы, возвышенные возгласы возмущения и заклинания, но они являются результатом страсти, их язык поэтому неровен, и часто они посвящены случайным событиям. Их ценность чисто моральная, тут они являются единственным и ни с чем не сравнимым произведением. В художественном отношении они прибавили к творениям Роллана лишь новый ритм: своего рода пафос публичного оратора, героически возвышенную речь, сознательно обращенную к тысячам и миллионам. В этих статьях говорит не единичная личность, а невидимая Европа, чьим главным свидетелем и публичным защитником впервые чувствует себя Ромен Роллан.
Сумеет ли вообще грядущеее поколение, когда будет читать эти статьи, собранные в томах «Au-dessus de la шё1ёе» и в «Les Prdcurseurs», оценить значение, какое они имели в ту пору для нашего мира? Нельзя измерить силу, не зная силы сопротивления, нельзя оценить подвиг, не зная принесенных жертв. Чтобы отдать должное моральному значению, героическому характеру этих воззваний, необходимо восстановить в памяти (ныне едва постижимое) безумие первого года войны, духовную эпидемию всей Европы, этот интеллектуальный сумасшедший дом. Надо представить себе, что принципы, ныне представляющиеся нам банальными, как, например, утверждение, что не вся нация в целом ответственна за возникновение войны, считались наказуемыми политическими преступлениями; надо вспомнить, что книгу, кажущуюся нам сегодня совершенно естественной, — «Au-dessus de la тё1ёе» — прокурор назвал «подлой», что ее автор был в опале, что статьи долго были под запретом, в то время как целый ряд памфлетов против этого свободного слова распространялся беспрепятственно. Надо вникнуть в атмосферу, окружавшую эти статьи, в общее молчание, чтобы понять, как громко должен был звучать голос, раздавшийся в этой великой умственной пустоте, и если ныне возвещенные им истины воспринимаются как само собой разумеющиеся, то нужно вспомнить прекрасные слова Шопенгауэра: «Истине на земле уделено лишь краткое победное торжество между двумя долгими промежутками, когда высмеивают ее парадоксальность или презрительно называют ее банальной». Сегодня (на краткое мгновение) настало время, когда многие из этих слов покажутся банальностью, потому что они за это время измельчены тысячами эпигонов. Мы же их знали в то время, когда каждое слово действовало как удар бичом, и возмущение, вызванное ими, свидетельствует о мере их исторической необходимости. Лишь ярость противников (еще сегодня обнаруживающаяся в целом потоке брошюр) дает понятие о героизме этого человека, впервые своей свободной душой возвысившегося «над схваткой». Не надо забывать, что «Dire се qui est juste et humain», «говорить, что справедливо и человечно», считалось тогда преступлением из преступлений. Ведь тогда человечество так обезумело от первой крови, что оно, как однажды изумительно выразился Роллан: «Еще раз распяло бы Иисуса Христа, если бы он воскрес, ибо он сказал: любите друг друга».
НАД СХВАТКОЙ
22 сентября 1914 года появляется в «Journal de Gendve» статья «Au-dessus de la тё1ёе», которая после мимолетной форпостной перестрелки с Герхартом Гауптманом открывает войну с ненавистью: она была решительным ударом молота для постройки незримого европейского храма среди войны.
Это заглавие с тех пор стало и боевым кличем и ругательством, но в этой статье над дисгармонией партийных перебранок впервые поднимается звучный голос непоколебимой справедливости, в утешение многим и многим все растущим тысячам.
Изумительно затушеванный трагический пафос одушевляет эту статью: таинственный отзвук часа, когда неисчислимое количество людей, в том числе и самые близкие друзья, истекают кровью. В ней потрясенность и потрясающее излияние души, свободное героическое решение объясниться с потерявшим рассудок миром. В гимне, обращенном к воюющей молодежи, появляется ритм: «О герои-юноши всего мира! С какой расточительной радостью отдают они свою кровь голодной земле. Как чудесные снопы жертв, косит их солнце этого великолепного лета. Все вы, юноши всех народов, которых общий идеал поставил друг против друга... как вы все мне дороги, вы, уходящие из жизни. Вы мстите за годы скептицизма, за наслаждающуюся слабость, в которой мы выросли... победители или побежденные, мертвые или живые, будьте счастливы!»
Но после этого гимна к верующим, которые мнят себя слугами высшего долга, Роллан обращается с вопросом к духовным вождям всех наций: «Вы, хранившие в своих руках живой клад героев, на какие дела вы расточили его? Какую цель поставили вы великодушному согласию их на мужественное самопожертвование? Взаимное убийство, европейскую войну». И он выступает с обвинением в том, что вожди трусливо прячутся теперь со своей ответственностью за идол — «судьбу» — и не только не противятся этой войне, но еще разжигают и отравляют ее. Ужасная картина! Все рушится в этом потоке; во всех странах, во всех нациях равно ликуют, взирая на то, что их губит. «Не только национальное возбуждение бросает в слепой ярости миллионы людей друг против друга... Разум, религия, поэзия, наука, все формы духа мобилизовались и во всех государствах сопутствуют армиям. Избранники каждой страны, все без исключения, с полной убежденностью провозглашают, что дело именно их народа — дело Божье, дело свободы и человеческого прогресса». С легкой насмешкой изображает он нелепые поединки философов и ученых, беспомощность обеих великих общественных сил — христианства и социализма, чтобы потом самому решительно отвернуться от этой схватки: «Представление, что любовь к отечеству непременно требует ненависти к другим отечествам и убийства тех, кто их защищает, это представление кажется мне глупейшей дикостью, нероновским дилетантизмом, который мне противен до глубочайших недр моего существа. Нет, любовь к моему отечеству не требует, чтобы я ненавидел и убивал верующие и верные души, любящие свое отечество. Она требует, чтобы я их чтил и соединился бы с ними для общего блага». И он продолжает: «Между нами, народами Запада, не было повода к войне. Не считая небольшой отравленной части прессы, которая заинтересована в разжигании этой ненависти, мы не питаем ненависти к нашим братьям во Франции, Германии и Англии. Я знаю их и знаю нас. Наши народы не требуют ничего, кроме мира и свободы для себя. Поэтому позор для интеллигенции загрязнять чистоту своего мышления при возникновении войны. Отвратительно смотреть, как свободный дух становится рабом страсти, детской и глупой племенной политики. Мы не смеем забывать в этой ссоре о единстве, о нашем общем отечестве. Человечество — симфония великих объединенных душ. Кто в состоянии понять его и любить лишь после того, как он разрушил часть его элементов, тот доказывает, что он варвар!.. Мы, цвет Европы, имеем два родных дома, наше земное отечество и град Божий... В одном из них мы гости, другой мы должны для себя сами воздвигнуть... Наш долг создать вал вокруг этого града, достаточно обширный и высокий, чтобы, возвышаясь над несправедливостью и ненавистью наций, он мог бы в своих пределах собрать братские и свободные души всего мира».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: