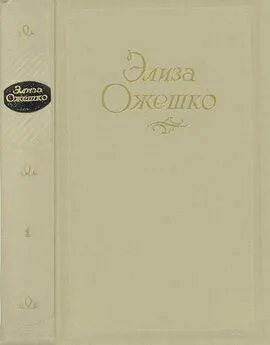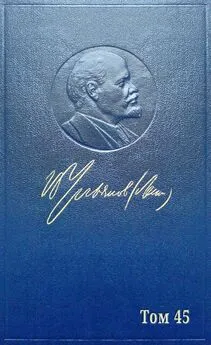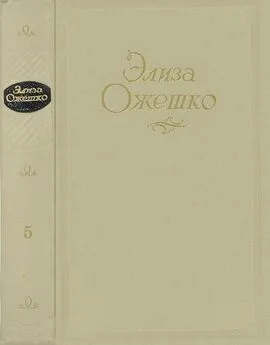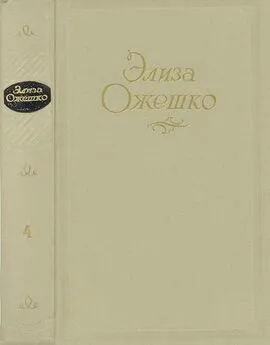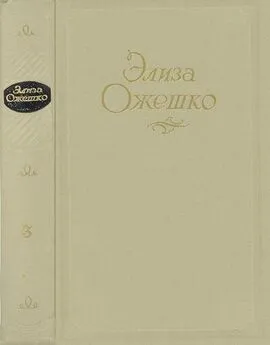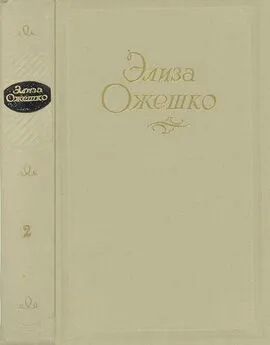Элиза Ожешко - Сочинения в 5 томах. Том 1. Марта. Меир Эзофович
- Название:Сочинения в 5 томах. Том 1. Марта. Меир Эзофович
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1953
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Элиза Ожешко - Сочинения в 5 томах. Том 1. Марта. Меир Эзофович краткое содержание
Действие романа «Меир Эзофович» происходит в небольшом еврейском городке. В романе присутствуют элементы саги — рассказ построен вокруг семейной легенды. Написанию романа предшествовали тщательные исследования культуры и религии иудаизма, в частности малочисленного крымского народа — караимов. Ожешко совершала многочисленные «вылазки в народ». В этом ей помогали евреи Леопольд Мает и Матиас Берсон. Шибов — маленький городок, который населяют евреи. В центре повествования две богатенькие семьи род Эзофович и род Тодросов.
Сочинения в 5 томах. Том 1. Марта. Меир Эзофович - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этим уменьем заставить читателя задаться вопросом «кто виноват?» и направить его мысль на поиски самостоятельного ответа были очень ценны для современников многие произведения Элизы Ожешко! А одно из них даже так и озаглавлено. «Кто виноват?».
Кто виноват в невежестве народа и в преступлениях, возникающих на почве этого невежества? («Дзюрдзи»). Кто виноват в нищете деревни? («В голодный год»). Кто виноват в пауперизме городского населения, в том, что этот вот юноша становится вором, а эта девушка вот-вот станет проституткой? («Серенькая идиллия»). Кто виноват в унижениях, которые терпит соблазненная женщина, и в гибели ее «незаконнорожденного» ребенка? («Юльянка»). Всюду «кто виноват». сотни «кто виноват», вплоть до скорбного вопля:, кто виноват в том, что родина моя унижена и порабощена и живет без надежды на скорое освобождение?
Так, от тома к тому, растет, с одной стороны, список мучений, мартиролог народных масс и целых стран, запертых в «тюрьме народов», и, с другой стороны, растет список преступлений существующего общественного строя и злодеяний царизма.
Следующим большим произведением, посвященным белорусской деревне, была повесть «Хам» (1887). Но интерес этой повести, главным образом, психологический; описаний деревенского быта здесь гораздо меньше, чем в «Дзюрдзях».
В «Дзюрдзях» была изображена пореформенная белорусская деревня, в которой уже заметно расслоение. В ней начинают верховодить зажиточные мужики. Так, например, горсточка их, собравшись в местечковой корчме после воскресного базара, обсуждает общественные дела всей деревни и принимает решения, подменяя собой «громаду» (мир); притом у этих зажиточных хозяев уже есть уверенность, что мир не посмеет с ними разойтись. В «Дзюрдзях» писательница вывела и бедняков. Это — многосемейные Яков Шишка и Семен Дзюрдзя. Малоземелье при больших семьях никак не позволяет им свести концы с концами. Ожешко показывает безвыходность положения таких крестьян и деморализующую силу нужды, которая гоняет свою жертву по заколдованному кругу всевозможных, говоря по-белорусски, «недохопов» (недостач), пока мужик не упадет в полном физическом изнеможении, или пока нищета не сломит его с помощью шинкаря и ростовщика. Что же касается положения батраков, то достаточно выразителен в «Дзюрдзях» пример Петруси, которая до ее выхода замуж восемь лет работала у зажиточных хозяев и в панском имении, а «пришла в избу мужа в одной юбке да в порванной кофте», хотя была она на редкость здоровая и сильная девушка, и отличная работница.
В повести «Хам» быт и экономика деревни даны только фоном, на котором разыгрывается драма неманского рыбака, белорусса Павла Кобыцкого.
Зерно идеи этого произведения — в его заглавии.
Наряду с обычным в Польше названием мужика — «хлоп», широкое распространение получило (особенно по отношению к белоруссам и украинцам) гнусное прозвище «хам». На мужика смотрели, как на представителя низшей расы, и в эту бытовую кличку раба вкладывалось презрение людей другой веры, другой, господствующей нации, другого класса.
Даже мещанство — и то смотрело на мужика сверху вниз и, по-своему реагируя на вековое противоречие города и деревни, третировало крестьян как хамов. И как раз в польском мещанстве всегда очень сильно проявлялся этот своеобразный «пафос социальной дистанции», когда дело шло об отношении к мужику. Закоренелость и заскорузлость польского застарелого и застоявшегося, затхлого мещанства не раз получали беспощадную оценку под пером Ожешко и многих других польских писателей.
Элиза Ожешко с первого же своего литературного выступления взяла под защиту забитого белорусского мужика. Она всю жизнь считала крестьянство фундаментом всего здания человеческого общества.
В «Дзюрдзях», пусть риторически, но с глубокой искренностью, она сказала о мужиках, что это — «труженики, чело которых, орошенное потом, по чистоте и величию может равняться с челом, увенчанным лаврами».
В новой повести «Хам» писательница дала образ крестьянина, всем своим существом, своими высокими и вместе с тем простыми душевными свойствами (естественными свойствами здорового духом рядового человека из народа) опровергающего ту гнусную кличку, которая стала у мещан и шляхты бытовым синонимом слова «крестьянин».
Павел Кобыцкий, неманский рыбак — всего лишь простой, неграмотный белорусский крестьянин.
Но в нем есть та ясность духа, которая свойственна людям одиноким, постоянно общающимся с природой.
В нем живо дает себя знать естественное чувство справедливости, и он без малейшего насилия над собой живет по тем вековым представлениям о правде, которые бытуют в народе.
Рано овдовевший, бездетный, он к сорока годам сохранил в сердце столько любви к человеку, что после нескольких встреч с горничной Франкой привязывается всем сердцем к этой видавшей виды женщине с вывихнутой душой, соблазненной когда-то мужем ее хозяйки и развращенной семнадцатилетней жизнью в горничных.
Огромный запас душевных сил, избыток душевного здоровья внушают Павлу бессознательную уверенность в том, что ему удастся спасти ее и, как мы тещ ерь выражаемся, перевоспитать.
Франка с такой правдивостью рассказывает ему свою жизнь, в ее рассказе столько искренней печали, когда она вспоминает о десятках унизительных подробностей своей службы в качестве личной прислуги, — сегодня у одних, завтра у других хозяев, — она так тяготится своим прошлым, так стремится теперь к другой, чистой и просветленной жизни, так восторженно любит Павла, что тот, долго не раздумывая, женится на ней.
Искренняя, увлекающаяся Франка сначала всем сердцем радуется новой жизни, даже ездит с Павлом на рыбную ловлю, живет в каком-то идиллическом сне.
Она прежде не знала природы, она никогда не была предметом такой чистой любви, новый мир широко распахнулся перед нею.
Но ее порыва хватает не надолго.
Та самая необыкновенная душевная подвижность, которая позволила ей так далеко уйти за миражем новой жизни, заставляет ее, спустя некоторое время, искать нового увлечения, и она уходит от Павла с первым подвернувшимся лакеем.
Две причины сыграли здесь решающую роль, помимо болезненной потребности в постоянной перемене обстановки, в постоянном притоке сильных новых впечатлений: она никак не может привыкнуть к систематическому (не очень для нее тяжелому благодаря постоянной мужниной помощи) крестьянскому труду, который она — домашняя прислуга в течение семнадцати лет! — считает недостойным ее, «хамским»; а затем она (еще до замужества заговорившая о неравном браке, о «мезальянсе») все время возвращается к мысли, что, выйдя замуж за Павла, она «омужичилась, охамилась»… И вот тут поражает целый «букет» ее неистребимо стойких представлений, связанных с чувством кастового превосходства мещанства над мужиком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: