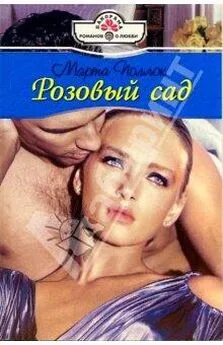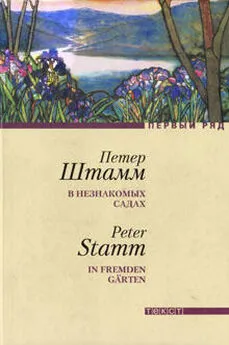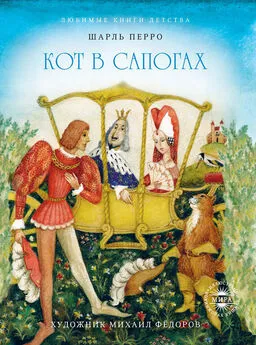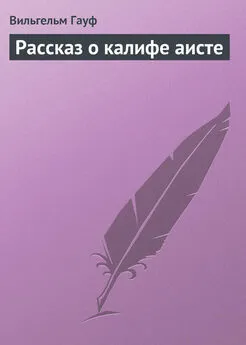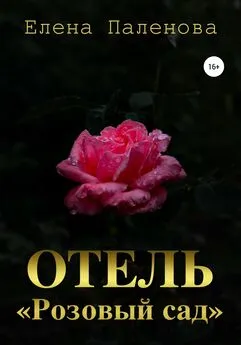Михай Бабич - Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы
- Название:Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00279-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михай Бабич - Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы краткое содержание
Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В стремлении обрести идею, способную противостоять теории расового превосходства, Бабич все чаще обращается к католицизму, он верил, что католическое вероучение могло бы стать основой примирения наций и народов. В этот период гуманизм в его мировосприятии соединяется с католицизмом, с христианской моралью.
В последнем своем произведении, в поэме «Книга Ионы» (1938), Бабич вновь обратился к людям с призывом противостоять злу и варварству, он не мог молчать: «тот, кто молчит, — сообщник преступников», писал он в своей поэме. Это произведение, созданное уже смертельно больным поэтом (у него был рак горла), является документом человеческого мужества и стойкости.
Современный прозаик, поэт и критик Л. Бока имел все основания оказать:
«Тем, что мы не стали фашистами, что нас приводит в ужас всякая вульгаризация, что мы стали требовательными к себе социалистами-гуманистами, мы обязаны также и Михаю Бабичу».
Последние годы жизни Бабича были очень тяжелыми: он окончательно потерял голос и мог беседовать с друзьями, коллегами и родными только с помощью «разговорных тетрадей».
Умер Бабич 4 августа 1941 года от рака горла, в Будапеште, в санатории «Сиеста». «Умер один из королей современности», — написал на следующий день в газете Лёринц Сабо, поэт и ученик Бабича.
Бабич безусловно был духовным вождем своего времени, одним из вдохновителей и руководителей той «литературной» революции, которая была осуществлена «нюгатцами», ее деятельным участником и вершителем. Два имени символизируют собой венгерскую литературу начала века: Эндре Ади и Михай Бабич. Творчество Ади всколыхнуло все общество, взбудоражило все сферы его духовной и политической жизни, Ади принес в литературу новые темы, новое содержание. Революционное воздействие творчества Бабича было иного плана. Если Ади, как писал венгерский поэт Арпад Тот, «принес новое вино», то Бабич — «новую бутыль», новую форму. Бабич сумел найти новые формы для выражения нового духовного содержания эпохи, обновил литературный язык, реформировал синтаксис венгерской фразы. В своем творчестве — по замечанию одного из современников — Бабич «создал венгерский синтез европейской духовной культуры XX века», то есть привил венгерской литературе лучшие достижения литературы европейской, открыл для нее новые пути и возможности. Отмечая огромное влияние Бабича на всю последующую венгерскую литературу, наша современница, венгерский поэт и критик Агнеш Немеш Надь, писала:
«Михай Бабич — одна из главных вершин великой горной гряды «Нюгат», водораздельной гряды, которая поднялась в венгерской литературе в начале века, именно с этого времени реки потекли уже по иным направлениям. Возможно, большинство рек берет свое начало на вершине по имени Бабич».
Творческое наследие Бабича многогранно: поэзия, проза, драматические произведения, исследования по истории литературы, эссеистика, публицистика, литературная критика, художественные переводы с греческого, латыни, немецкого, французского, английского, итальянского языков (в частности, непревзойденные до сих пор переводы «Божественной комедии» Данте, стихотворений и новелл Э. По и др.).
Классическим определением творческой личности Бабича в венгерском литературоведении стала формула «poeta doctus», «поэт-ученый». Она подразумевает широту литературных интересов Бабича, глубину познаний, внимательное изучение философии и психологии. Проникнуть в суть этой формулы помогает лирическое признание самого поэта:
Если бы ты заглянул в мою комнату, современный человек,
ты бы увидел маленькую свечку, слепящий огонь,
лежащую передо мной книгу
и в книге округлые старинные греческие буквы.
Если бы ты заглянул в мое сердце (но ты не заглянешь),
ты бы увидел, как очаровано оно древними временами.
И если бы ты проник в мое воображение (но ты не проникнешь),
ты бы увидел просторы… из «Одиссеи»…
В этой очарованности книгой, литературой, в ориентации на высокую духовную культуру заключается несомненно основная, определяющая черта творческой личности Бабича. Тонкое, прочувствованное знание других культур, обостренная восприимчивость к различным стилям, удивительно бережное обращение с ними сделало его творчество уникальным, неповторимым, а насыщенность его произведений античными, библейскими образами и мотивами, реминисценциями и литературными ассоциациями придала им глубину и многозначность.
При всем своеобразии творчество Бабича было знамением времени. В программной книжности был явственно ощутим дух новой эпохи. Подобную пору переживала в начале века и русская литература. Заведомая «книжность», установка на стилизацию, на воспроизведение «чужого слова», «широта традиций» (как писал Ю. Тынянов) отличали поэзию и прозу В. Брюсова. А. Белый заявлял: «Мы переживаем ныне в искусстве все века и все науки». О «тоске по мировой культуре» говорил и О. Мандельштам.
«Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, то есть собирателями, — писал Мандельштам в 1922 году в статье «Литературная Москва». — Я думаю, это — не в обиду, это — хорошо. Всякий настоящий прозаик — именно эклектик, собиратель».
Таким «собирателем» различных культур, различных стилей был в своем творчестве и Михай Бабич. Стилизация в произведениях Бабича — это не просто воспроизведение старого, это способ постижения нового через старое. Заимствованные, пропущенные сквозь оригинальную мысль автора чисто формальные приемы различных литературных школ и направлений становятся средством создания глубоко индивидуального художественного мира. Различные стили различных эпох представляют собой в творчестве Бабича не механическое соединение разнородных художественных принципов, художественных элементов, а совершенно особый, органический «сплав». Силой, цементирующей этот «сплав стилей», является личность поэта, его поэтическое кредо. Вот почему в формуле «поэт-ученый» главным для характеристики Бабича является слово «поэт».
И в стихах, и в прозе Бабич был поэтом, философом, исследующим глубинные вопросы жизни, скрытую, таинственную суть человеческого существования. А. Немеш Надь так определила болевой центр его творчества:
«Бабич мучается не политикой, не национальными, интернациональными или социальными вопросами, он мучается не любовью, не зубами, не ушами. Бабич — тот поэт, который мучается человеческим существованием, экзистенцией».
Суть человеческого существования «поэт-ученый» стремится постичь одновременно разумом, как «ученый», и интуитивно, как «поэт». Произведения его возникают как бы из соприкосновения разума и интуиции, на «пограничной черте науки и веры» (если воспользоваться словами русского символиста Д. Мережковского). Такой способ отображения жизни связывает творчество Бабича с эстетикой символизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: