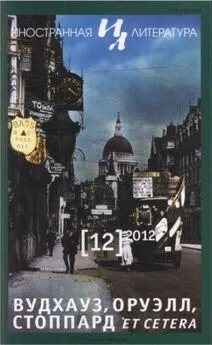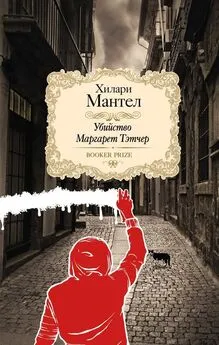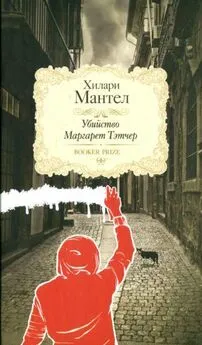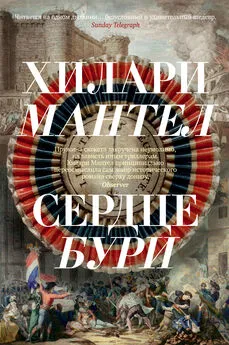Хилари Мантел - Год Шекспира
- Название:Год Шекспира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хилари Мантел - Год Шекспира краткое содержание
Рубрике задает тон трогательное и торжественное «Письмо Шекспиру» английской писательницы Хилари Мантел в переводе Тамары Казавчинской. Затем — новый перевод «Венеры и Адониса». Свою русскоязычную версию знаменитой поэмы предлагает вниманию читателей поэт Виктор Куллэ (1962). А филолог и прозаик Александр Жолковский (1937) пробует подобрать ключи к «Гамлету». Здесь же — интервью с английским актером, режиссером и театральным деятелем Кеннетом Браной (1960), известным постановкой «Гамлета» и многих других шекспировских пьес. Перевод Елены Малышевой. Завершает рубрику — глава из поэмы американского поэта Хаима Плуцика (1911–1962) «Горацио» в переводе Антона Нестерова. Вот что он пишет, среди прочего, в своем предисловии: «…в глазах датского двора и народа Дании Гамлет — всего лишь убийца законного властителя, а история, рассказанная Призраком, никому, кроме принца и Горацио, не известна. Свидетельство Горацио — последнее и единственное оправдание принца. И на этом Плуцик строит свою поэму».
Год Шекспира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Год Шекспира
Хилари Мантел
Письмо Шекспиру
Перевод с английского Т. Казавчинской
Дорогой отец мой Шекспир!
На этой неделе я перевесила твой портрет туда, куда не доходят лучи солнца — начинается лето, и мне подумалось, что тебе так будет лучше. Призна́юсь, я много лет не решалась повесить тебя у себя в комнате: боялась гостей. Когда на вопрос, кто ваш любимый писатель, следует ответ: «Шекспир», это воспринимается как отговорка. Но стоит сказать, что как сочинитель ты всем обязан Шекспиру, и собеседник заключает, что у тебя выраженная мания величия.
В конце концов, решила я: пусть думают, что́ им заблагорассудится, мне что за дело? Если уж так случилось, что ты стал для меня утешителем и вдохновителем, разве не чудесно всегда иметь твое лицо перед глазами? Ты вливал в меня силы, когда я падала духом, не позволял сдаваться, когда наступала черная полоса.
Родители у меня не из образованных. Дома в детстве книг было раз два и обчелся — впрочем, как и у всех знакомых и соседей. Но когда мне исполнилось одиннадцать и мать снова вышла замуж, жизнь переменилась. Мы переехали в другой город, и она стала буквально из кожи вон лезть, чтобы выглядеть пореспектабельней. В доме, решила она, должны быть книги — «как у людей». Ну а какие книги стоят «у людей»? Ясно, как божий день: полное собрание сочинений Шекспира.
Помню летний полдень, когда мы его купили: большой, черный, тяжелый томина на дешевой, газетной, с первых дней пожелтевшей бумаге, со смазанной, словно не просохшей типографской краской. Точно такие же «кирпичи» годами томятся на полках бесчисленных магазинов страны — пылеуловители, не знающие человеческого прикосновения. Но едва я открыла книгу, как она запульсировала в руках, словно живая. Любовники, заблудившиеся в лесу летней ночью; Цезарь, погибающий в кровавой стихии мятежа; жертвы кораблекрушения, выброшенные на неведомый остров; на зубчатой стене замка принц датский беседует с призраком.
Никто меня не предупредил, что читать тебя трудно, и читать тебя было легко. В тот год я перешла в старшие классы, где тебя положено изучать по программе. Но в каникулы совершился прорыв — нет-нет, не то, чтоб я прочла всё, от корки до корки, это случилось потом, но проглотила одну за другой не меньше десятка пьес. И тогда же неугасимой любовью полюбила твои бурные, непричесанные хроники — истории, порожденные мифами, всплывшие из толщи времени. В свои одиннадцать я мигом впитала то, в чем нуждалась острее всего: историю и поэзию, очутившись в самом их средоточии. Мне необходимо было прилепиться к чему-то душой: детство стремительно таяло. И дело было не только в другом городе, но и в другой фамилии, другом отце — вернее, отчиме. Отец от нас ушел, я его никогда больше не видела. Перемены были отнюдь не к лучшему, и почти всю последующую жизнь я ощущала себя безотцовщиной.
Но в один прекрасный день, лет пятнадцать назад, мне вдруг подумалось: «Что это я! Отец у меня есть, это Шекспир». Вот тогда-то, осознав, что́ ты для меня значишь, я и повесила у себя в комнате твой портрет. И в этом году, в дни 400-летнего юбилея со дня твоей смерти, я, одна из множества твоих преданных живущих на земле дочерей, ставлю свое имя под этим письмом. Нас миллионы — и нам не требуется ответа.
Хилари Мантел.
2016
Уильям Шекспир
Венера и Адонис
Поэма. С параллельным английским текстом. Перевод с английского Виктора Куллэ
Villa miretur vulgus; mihi
flavus Apollo
Pocula Castalia plena ministret
aqua.
To the Right honourable Henry Wriothesley, Earl of Southampton, and Baron of Tichfield.
Right honourable,
I know not how I shall offend in dedicating my unpolished lines to your Lordship, nor how the world will censure me for choosing so strong a prop to support so weak a burtden; only if your Honour seem but pleased I account myself highly praised, and vow to take advantage of all idle hours, till I have honoured you with some graver labour. But if the first heir of my invention prove deformed I shall be sorry it had so noble a godfather, and never after ear so barren a land, for fear it yield me still so bad a harvest. I leave it to your honourable survey, and your Honour to your heart’s content, which I wish may always answer your own wish, and the world’s hopeful expectation.
Your Honour’s in all duty,
William Shakespeare
Even as the sun with purple-coloured face
Had ta’en his last leave of the weeping morn,
Rose-cheeked Adonis hied him to the chase.
Hunting he loved, but love he laughed to scorn.
Sick-thoughted Venus makes amain unto him,
And like a bold-faced suitor ’gins to woo him.
ʼThrice fairer than my self’, thus she began,
ʼThe field’s chief flower, sweet above compare,
Stain to all nymphs, more lovely than a man,
More white and red than doves or roses are:
Nature that made thee with herself at strife,
Saith that the world hath ending with thy life.
ʼVouchsafe, thou wonder, to alight thy steed,
And rein his proud head to the saddle-bow.
If thou wilt deign this favour, for thy meed
A thousand honey secrets shalt thou know:
Here come and sit, where never serpent hisses,
And being set, I’ll smother thee with kisses,
ʼAnd yet not cloy thy lips with loathed satiety,
But rather famish them amid their plenty,
Making them red, and pale, with fresh variety:
Ten kisses short as one, one long as twenty.
A summer’s day will seem an hour but short,
Being wasted in such time-beguiling sport.’
With this she seizeth on his sweating palm,
The precedent of pith and livelihood,
And, trembling in her passion, calls it balm,
Earth’s sovereign salve, to do a goddess good.
Being so enraged, desire doth lend her force
Courageously to pluck him from his horse.
Over one arm the lusty courser’s rein,
Under her other was the tender boy,
Who blushed and pouted in a dull disdain,
With leaden appetite, unapt to toy;
She red, and hot, as coals of glowing fire,
He red for shame, but frosty in desire.
The studded bridle on a ragged bough,
Nimbly she fastens (O how quick is love!);
The steed is stallèd up, and even now,
To tie the rider she begins to prove.
Backward she pushed him, as she would be thrust,
And governed him in strength though not in lust.
So soon was she along, as he was down,
Each leaning on their elbows and their hips.
Now doth she stroke his cheek, now doth he frown,
And ’gins to chide, but soon she stops his lips,
And kissing speaks, with lustful language broken:
ʼIf thou wilt chide, thy lips shall never open.’
He burns with bashful shame, she with her tears
Doth quench the maiden burning of his cheeks;
Then with her windy sighs, and golden hairs,
To fan, and blow them dry again she seeks.
He saith she is immodest, blames her miss;
What follows more, she murders with a kiss.
Even as an empty eagle sharp by fast,
Tires with her beak on feathers, flesh, and bone,
Shaking her wings, devouring all in haste,
Till either gorge be stuffed, or prey be gone:
Even so she kissed his brow, his cheek, his chin,
And where she ends, she doth anew begin.
Forced to content, but never to obey,
Panting he lies, and breatheth in her face;
She feedeth on the steam, as on a prey,
And calls it heavenly moisture, air of grace,
Wishing her cheeks were gardens full of flowers,
So they were dewd with such distilling showers.
Look how a bird lies tangled in a net,
So fasten’d in her arms Adonis lies.
Pure shame and awed resistance made him fret,
Which bred more beauty in his angry eyes:
Rain, added to a river that is rank,
Perforce will force it overflow the bank.
Still she entreats, and prettily entreats,
For to a pretty ear she tunes her tale.
Still is he sullen, still he lours and frets,
ʼTwixt crimson shame, and anger ashy-pale,
Being red she loves him best, and being white,
Her best is bettered with a more delight.
Look how he can, she cannot choose but love;
And by her fair immortal hand she swears,
From his soft bosom never to remove,
Till he take truce with her contending tears,
Which long have rained, making her cheeks all wet,
And one sweet kiss shall pay this countless debt.
Upon this promise did he raise his chin,
Like a dive-dapper peering through a wave,
Who being looked on, ducks as quickly in:
So offers he to give what she did crave,
But when her lips were ready for his pay,
He winks, and turns his lips another way.
Интервал:
Закладка: