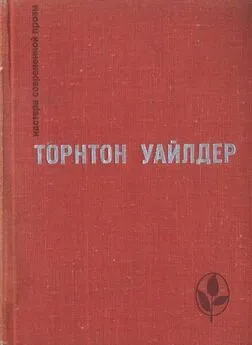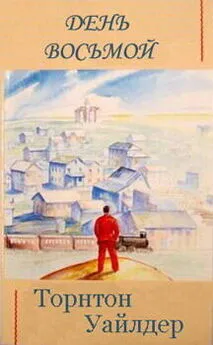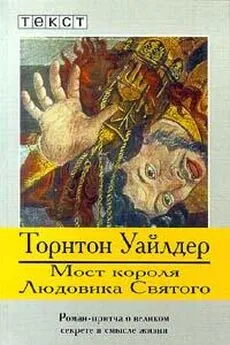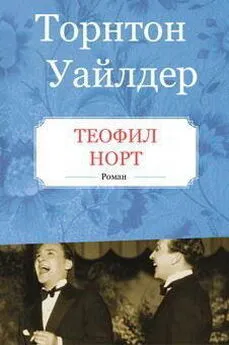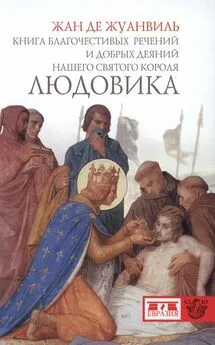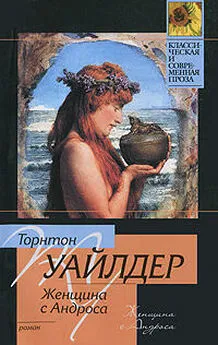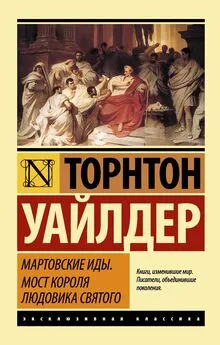Торнтон Уайлдер - Мост короля Людовика Святого. День восьмой
- Название:Мост короля Людовика Святого. День восьмой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Торнтон Уайлдер - Мост короля Людовика Святого. День восьмой краткое содержание
Торнтон Уайлдер принадлежит к поколению Э. Хеминуэя и У. Фолкнера.
Его роман «Мост короля Людовика Святого» — классическое произведение литературы США XX века. Это настоящая поэма о Промысле Божием.
«День Восьмой» — самый известный роман Торнтона Уайлдера, признанный жемчужиной американской реалистической прозы XX века.
Тонкая, полная глубокого психологизма история жизни братьев и сестры из маленького провинциального городка, причудливыми и тернистыми путями идущих к славе и богатству.
Каждый из них — уникален как личность и отмечен огромным талантом.
Каждый осознает собственную исключительность и не боится рисковать и идти на жертвы ради успеха.
Но удастся ли им обрести обычное, человеческое счастье? Или путь наверх так и окажется для них дорогой в никуда?
Мост короля Людовика Святого. День восьмой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В пруду Старой каменоломни были миллионы пескарей. Мистер Марден говорил, когда рыбы становится слишком много, она поедает свою икру. Война — это когда недостает пищи.
Толпа наводит на мысль о деньгах. У каждого лежат деньги в кармане. Металлические, бумажные. Эквивалент определенного количества труда, и качества тоже. Большей лжи не бывало на свете. Мистер Джош мне рассказывал про Пульмановскую забастовку девяносто четвертого года…
Толпа наводит на мысль о взаимном притяжении полов. У мужчин на улице глаза так и бегают, все выглядывают хорошеньких девушек. А женщины будто надели шоры; смотрят только вперед. Делают вид, что никого не замечают. Все то же влеченье к другому полу, оно словно морковка, подвешенная перед мордой осла. Поддерживает интерес. Как у Шекспира: „Безумцам освещает путь к пыльной смерти“.
Толпа наводит на мысль о религии. Для чего господь создал такие несметные множества? Нет, я еще лет пять не стану размышлять о религии. Не знаю, с чего начать. Тоже, верно, морковка перед мордой. Возвышает людей в собственных глазах. Может быть, отец умер. Но для нас с Софи он никогда не умрет. Он живет в нас даже тогда, когда мы о нем и не думаем.
Воображение — это уменье видеть сквозь толщу стен. И сквозь толщу черепных костей тоже. Тюрьма, где сидит Юджин Дебс, всего в миле отсюда. Хотел бы я быть мухой на стене и узнать, что он думает о людях, о кладбищах и еще о многом другом».
Порой ему вдруг начинало казаться, что он становится тенью, никем — холодным, одиноким, ненужным. Чтобы превозмочь это чувство, он мысленно ставил Софи рядом с собой. «Смотри, Софи! Ты только смотри!»
Он решил взглянуть, что такое жизнь с точки зрения медицины. Не взяв с собой письма доктора Гиллиза, он пошел в больницу и попросился на работу санитаром. Его сразу же приняли. Платили там не больше, чем за мытье посуды в ресторане, но, кроме денег, полагались харчи и койка в общежитии. Он скреб шваброй полы в операционных и выносил ведра с ошметками плоти. Раз ему стало дурно, впрочем, дурно стало и сиделке, работавшей рядом. Он обтирал умирающих и держал на руках стариков и обессиленных болезнью, пока сиделки меняли им постельное белье. Он никогда не болел, до поступления в «Карр-Бингем» ему почти не приходилось видеть больных. А в том, что он видел там, явно были виноваты сами люди — их пороки, их глупость. Прошло немало времени, пока он сумел освободиться от этого предубеждения. На новой службе он оставался все таким же — молчаливым, безотказным и неутомимым. Другие скоро привыкли к тому, что он никогда не считается с часами дежурств, и принимали это как должное. Есть нечто комичное — помните? — в мастерском выполнении черной работы. У санитара Трента отсутствовало чувство меры. Уже после сигнала гасить свет в палатах он по нескольку раз в ночь заходил то к мистеру Кигану, у которого была желудочная фистула, то к Барри Хочкиссу, мучившемуся от ущемления грыжи. Его верность долгу ошибочно принимали за сочувствие. Он никогда ничего не упускал, никогда ничего не забывал. На прежних местах к нему относились по-приятельски; здесь за его работу ему платили любовью. Но сам он никого не любил. Когда в третьем часу он бесшумно пробирался между кроватями, в воздухе стоял стон «Трент! Трент!» — точно над полем боя, проигранного с большими потерями. Большой спрос был на него и как на писца писем. («У меня времени не больше, чем на двадцать слов, мистер Уотсон». «Вы мне уже задолжали за три марки, судья».) Случалось, его призывали и в женские палаты. Миссис Розенцвейг, уцепившись за его руки, шептала с чувством: «Хороший вы мальчик. Господь вознаградит вас за вашу доброту». Но Роджеру не нужно было господне вознаграждение. Ему нужны были двадцать долларов, чтобы послать матери в Коултаун.
С каждым месяцем вокруг все меньше оставалось такого, что могло его удивить. Общение с сотоварищами расширяло его жизненный опыт. Доктор Гиллиз в свое время умолчал о том, что в санитары идут главным образом те, кому больше некуда податься, — вчерашние заключенные, дезертиры из иностранных армий, лишенные сана церковнослужители, эпилептики, маньяки-поджигатели, состоящие под надзором, шифровальщики, работающие над текстами шекспировских пьес, коллекционеры кукольных нарядов, бывшие штангисты, преобразователи мирового устройства. Работали санитары в несколько смен, и оттого в общежитии почти никогда не бывало тихо. Роджер, ложась спать, затыкал уши ватой, не столько, впрочем, от шума — он уснул бы и под завыванье бури и под грохот канонады, — сколько от разговоров кругом. Образ женщины постоянно витал в комнате, неотвязный, как туча мошкары, возникая то здесь, то там в смешках, шепоте, гоготе и долгих, возбужденных рассказах.
Привычку затыкать уши ватой он перенял у Клема, самого старшего из санитаров. Клем большую часть свободного времени тратил на чтение; тратил бы и все, если бы не слабеющие глаза. Полчаса почитав, он полчаса сидел неподвижно, закрыв лицо руками, в позе то ли молящегося, то ли впавшего в отчаяние. Он был философом. В тесном углу, где стояла его койка, он ухитрился соорудить себе отшельничью келью, отгородясь ящиками из-под лекарств и консервов, которые служили и стенами и книжными полками. Больше всего книг было на латинском или на английском, казавшемся не более доступным, чем латынь; попадались также французские и немецкие. СПИНОЗА… ДЕКАРТ… ПЛОТИН. Вот и приходилось затыкать уши ватой. Роджер подолгу задумчиво созерцал звуконепроницаемую голову Клема, склоненную над книгой.
Большинство пациентов покидало больницу слабыми, но излечившимися. На прощание многие делали Роджеру небольшие подарки — сигары, подтяжки, образки, виды чикагской набережной на почтовых открытках, карманные гребешки, календари с рекламой бакалейных товаров. («До свидания, Трент, голубчик, спасибо за все!», «До свидания, Трент, вы были очень добры к моему мужу. Смотрите же, не забывайте — у нас в доме всегда найдется для вас комната, если будет нужно».) Его любили, а он не любил никого. Ему часто приходилось иметь дело с умирающими. Он твердо решил не задавать себе тех вопросов, что неминуемо возникают, когда много раз близко видишь смерть; но есть решения, выполнить которые не так-то легко.
В тех случаях, когда агония затягивалась или становилась особенно тяжкой, больного перекладывали на каталку и везли в специально отведенное помещение. У санитаров оно было известно под довольно грубым названием, которого Роджер никогда не употреблял. Священники входили туда и выходили в любое время. Родственникам разрешалось минутку постоять на пороге. Санитары забегали покурить втихомолку. Разговаривать мешал хрип умирающих, их дыхание с присвистом. Многие звали мать — так бывает чаще всего перед концом, даже если человеку уже лет под сто. (Это первое и последнее слово легко выговорить; в любом языке оно начинается со звука «м».) На каминной доске стояла чашка с приготовленными монетками. Роджер научился довольно точно угадывать приближение мига смерти. Он всякий раз напряженно ждал этого мига. Ему нравилось выражение «испустить дух». (Вопрос: куда потом дух девается?) Если умирал старый человек, он бестрепетно глядел в лицо умирающему. Если молодой, он отворачивался. Временами ему все же становилось невмоготу, слишком тяжким было бремя таких впечатлений для восемнадцатилетнего. Он с нетерпением дожидался ночи. Если ночь была ясная, он выносил на крышу охапку одеял, расчищал местечко в снегу и ложился навзничь, обратив глаза к небу. Из ущелья, в котором теснился Коултаун, виден был только узкий лоскут неба. Он лежал и думал о том, что бог, создав такое множество людей, создал также и множество звезд, и в этом было что-то отрадное. Должно быть, тут существует некоторая связь. Среди мириад звезд есть такие, что светят сейчас и обитателям «Вязов», а может быть, и его отцу, где бы тот ни был. Мысль о несметности человечества уже не подавляла, как прежде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: