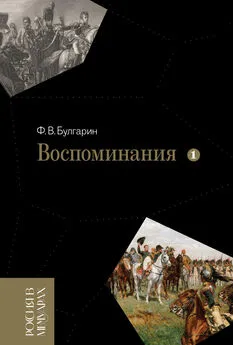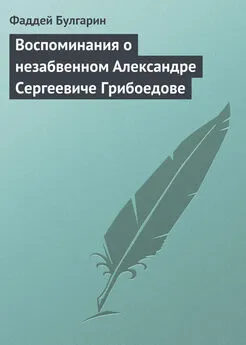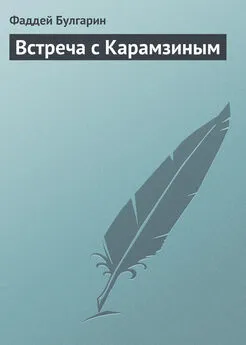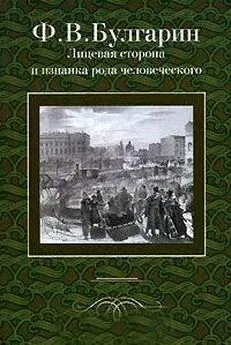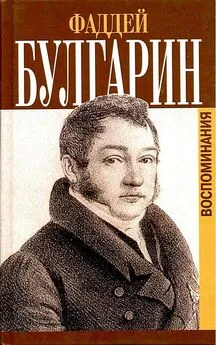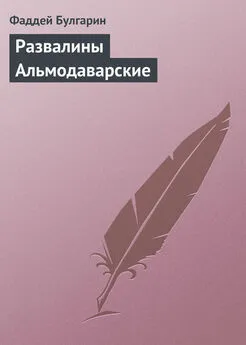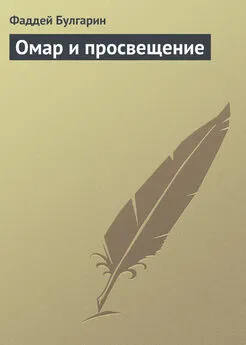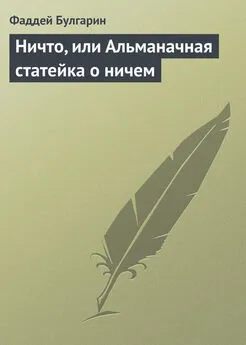Фаддей Булгарин - Воспоминания. Мемуарные очерки. Том 1
- Название:Воспоминания. Мемуарные очерки. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1524-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фаддей Булгарин - Воспоминания. Мемуарные очерки. Том 1 краткое содержание
Воспоминания. Мемуарные очерки. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
318
Речь идет о прибалтийских территориях, отошедших к Российской империи в результате Северной войны по Ништадскому мирному договору (1721), включавших Эстляндию, Лифляндию и так называемую Старую (Восточную) Финляндию; после третьего раздела Польши (1795) к ним присоединилась и Курляндия. Остзейские провинции сохраняли привилегии и права прежнего правления, в них продолжало действовать немецкое рыцарское и земельное право. Реформы, проведенные при Екатерине II, были направлены на интеграцию прибалтийских провинций в империю. В созданных Ревельской, Рижской и Курляндской губерниях, разделенных на округа, административная и судебная власти были реформированы по общероссийскому образцу, большая часть дел оказалась в ведении Третьего департамента Сената, официальным языком был сделан русский. Ликвидация особого прибалтийского порядка встретила сопротивление остзейского дворянства, не желавшего сливаться с российским, но была поддержана прибалтийским беднейшим безземельным дворянством и русскими дворянами, получившими возможность приобретения земли в новых губерниях. Ассимиляционная политика была свернута при Павле I, восстановившем действие Литовского статута и некоторых остзейских привилегий (см.: Тухтенхахен Р. Остзейские провинции в XVIII веке // Страны Балтии и Россия: общества и государства: сб. ст. М., 2002. С. 81–113). В период работы над мемуарами Булгарин, хозяин имения в Лифляндии, испытал на себе негативное отношение остзейского дворянства и притеснения со стороны местных властей, на что в 1846 г. жаловался министру внутренних дел Л. А. Перовскому, см.: Исторический вестник. 1882. № 12. С. 723. Об отношении Булгарина к остзейским привилегиям см. также: Исаков С. Г. О ливонской теме в русской литературе 1820–1830‐х годов // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. 1960. Вып. 98. С. 185–189; Он же. Прибалтика в русской литературе второй половины 1830 – 1850‐х годов // Ученые записки Тартуского гос. ун-та, 1962. Вып. 119. С. 160–169; Шор Т. «Нелитературное» Карлово и его обитатели (Обзор документов Национального архива Эстонии) // Новое литературное обозрение. 2014. № 129. С. 175–191.
319
Литературная деятельность Екатерины II была весьма интенсивна: в числе принадлежащих ей литературных опытов – комедии нравов, комические оперы, исторические драмы (всего 25 законченных драматических произведений), аллегорические сказки, журнальные сатирические и полемические статьи, написанные преимущественно на русском языке (см.: Сочинения императрицы Екатерины II. На основании подлинных рукописей. С объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина: В 12 т. СПб., 1901–1907; Екатерина II. Сочинения / Сост., вступ. ст. и примеч. В. К. Былинина и М. П. Одесского. М., 1990). Булгарину были близки как екатерининская концепция благонамеренной сатиры, служащей для управления общественным мнением, так и ее апелляция к редакторской маске с узнаваемыми чертами; с журналом императрицы «Всякая всячина» перекликалось название булгаринской фельетонной рубрики в «Северной пчеле» «Журнальная всякая всячина».
320
По-видимому, речь идет о Ш. Массоне, авторе запрещенных цензурой «Секретных записок о России, и в особенности о конце царствования Екатерины II и начале правления Павла I» (1800–1802), – скорее всего, поэтому Булгарин и не называет его имени. Вышедшие одновременно в Амстердаме и в Париже и переведенные на немецкий, английский и датский языки «Записки» Массона оказали влияние на мемуаристов, обращавшихся к этой эпохе. Несмотря на запрет в России, русское образованное общество было хорошо знакомо с мемуарами Массона, их упоминает в своих воспоминаниях Н. И. Греч. Булгарин должен был знать Массона не только как мемуариста, но и как писателя уже потому, что, будучи кадетом, скорее всего изучал географию по изданному в Шляхетном кадетском корпусе оригинальному пособию Ш. Массона «Памятный курс географии, или Легкий и приятный способ читать карты, воспитывая при этом вкус молодых людей» (1789) (см.: Лямина Е. Э., Песков А. М. О «Записках» Массона // Массон Ш. Секретные записки о России. М., 1996. С. 8–9). В критических по отношению к России «Записках» Массон отдает должное первым политическим шагам Павла I, отмеченным «справедливостью и великодушием» и потому «внушившим доверие к нему». В их числе освобождение Т. Костюшко и пленных поляков: «…он был достаточно благороден, чтобы самому снять оковы с Костюшко. <���…> Этот поступок произвел самое сильное и благоприятное впечатление. Он все же делает честь Павлу: в императоре принужден бываешь восхищаться тем, что на самом деле является лишь обыкновенным проявлением справедливости». Противоречивость и двойственность поведения Павла в начале правления «ясно доказывает, – писал Массон, – что его милости следует приписать политике, а последовавшие за ними опалы – столько же его страстности, сколько справедливости» ( Массон Ш. Секретные записки о России. С. 81–82, 89).
321
В начале правления Павла I «выключили из полков вон» всех гвардейских офицеров, носивших придворное звание, затем был объявлен смотр всем числящимся в полках, не явившиеся были уволены в отставку. Так была прекращена практика «заочной» службы дворянских детей, записываемых в полки с момента рождения. Жесткость позиции Павла по отношению к «лежням»-дворянам подтвердили последовавшие осенью 1797 г. высочайшие приказы «о непринимании выключенных за леность из службы ни в какую службу» и «о невыборе дворян, исключенных из воинской службы, ни в какие должности» (см.: ПСЗРИ. Собр. I. СПб., 1830. Т. XXIV. 17.968; 18.196; 18.201; 18.245; Т. XXV. 18.321; Анненков И. В. История лейб-гвардии конного полка. 1831–1848. СПб., 1849. Ч. 1. С. 190; Валькович А. М. Золотой век российской гвардии. М., 2010. С. 224, 227).
322
Подобного рода многочисленные регламентирующие как внешний облик, так и частную жизнь запреты, доводившиеся до населения распоряжениями петербургского обер-полицмейстера, вызывали насмешки современников. После смерти Павла I они приобрели значение «знаковых» примет его правления: «Круглые шляпы тоже снова появились, и я был свидетелем суматохи, внезапно происшедшей в одно утро в приемной графа Палена: все бросились к окнам <���…> проходила по улице первая круглая шляпа. <���…> Можно без преувеличения сказать, что разрешение носить круглые шляпы произвело в Петербурге более радости, чем уничтожение тайной экспедиции» (Записки Августа Коцебу // Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. 2‐е изд., доп. СПб., 1908. С. 408). Однако эти на первый взгляд «бессмысленные мелочи» правления Павла преследовали, как показывает Н. Я. Эйдельман, идеологические задачи, нуждавшиеся в декоруме, противопоставлявшем «рыцарство» «якобинству» (см.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 64–70).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: