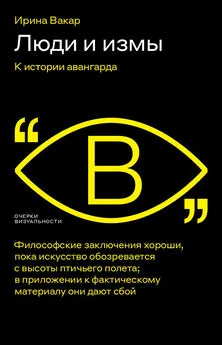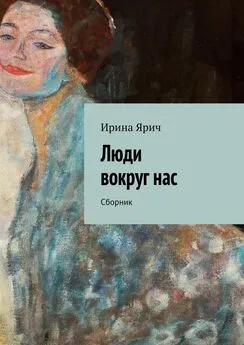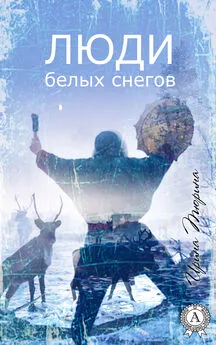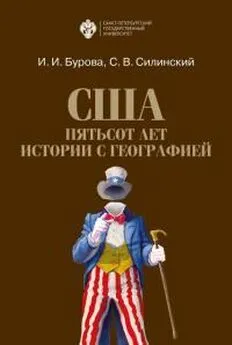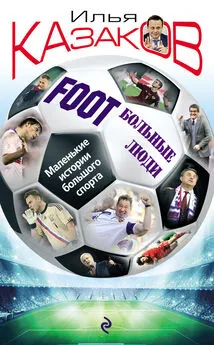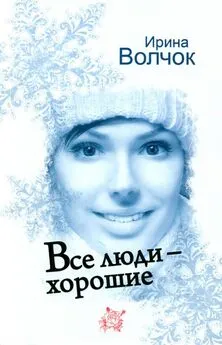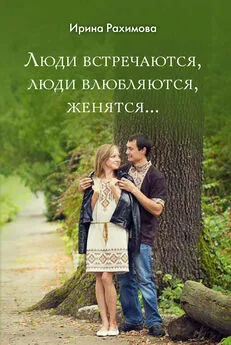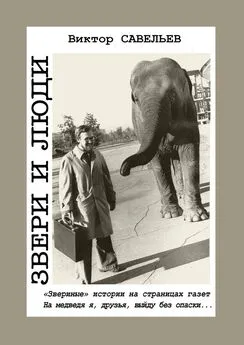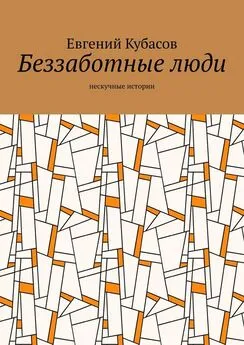Ирина Вакар - Люди и измы. К истории авангарда
- Название:Люди и измы. К истории авангарда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444816868
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Вакар - Люди и измы. К истории авангарда краткое содержание
Люди и измы. К истории авангарда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неудивительно, что супрематизм давал основания для обвинений двоякого рода: во-первых, в том, что вне своей теории, своего «учения» он непонятен, супрематисты – не художники, а религиозная секта; во-вторых, что он всего лишь новый декоративный стиль, а его адепты – художники-прикладники.
Если первое супрематисты отрицали скорее по политическим мотивам, чем принципиально, то второе вызывало у них активные возражения, поскольку игнорировало как раз «зерно» супрематизма – его пространственную концепцию. По замыслу своего автора, она противоположна не только пути от кубизма к конструктивизму (то есть выходу в реальное пространство трех измерений), но и плоскостному декоративизму. «Потому что нарезать цветные бумажки, вытряхнуть их на чистый лист и назвать это супрематизмом, такая операция так же проста, как и всякая провокация» 163 163 Лисицкий Л. М. Указ. соч. С. 143.
. Различие между тем и другим Лисицкий, как и другие супрематисты, видел в «напряжении», возникающем между супрематическими формами, в превращении плоскости белого фона в «силовое поле». Надо признаться, что никто из супрематистов, включая самого Малевича, не мог вычленить очевидное формальное качество, которое позволило бы определить наличие или отсутствие этого силового поля. Так, К. И. Рождественский утверждал, что при внимательном взгляде, например, на «Спортсменов» Малевича можно почувствовать «напряжение» фона в просветах между фигурами и внутри контуров. Эта ссылка на «чувство» в свое время не показалась мне убедительной, однако сейчас я начинаю думать, что это качество действительно существует, но его трудно и ощутить, и сформулировать.
И здесь авангард столкнулся с коллизией, за несколько лет до этого пережитой символизмом, – существованием «истинного» и «неистинного» вариантов направления. При этом критерий истинности как в одном, так и в другом случае связан с противоположностью смыслообразующей и декоративистской тенденций в живописи этих направлений, или, говоря иначе, двух представлений о назначении искусства – как эстетического преображения реальности и как способа познания. И в символизме, и в супрематизме этот критерий труднопостигаем, почти неуловим, поскольку в конечном итоге упирается в проблему нового восприятия, особого, «посвященного» зрителя. Интересно, что Малевич устраняет декоративный эффект, свойственный цветному супрематизму тем же способом, к которому прибегли и символисты, – обесцвечиванием живописи. В серии «Белое на белом» супрематические фигуры теряют четкость, начинают «таять», формы становятся миражными, исчезающими. Как ни различна беспредметная и фигуративная живопись (а живопись символизма не только фигуративна, но и тематична), здесь черты художественного мышления Малевича и его предшественников сближаются. Объединяет их и понимание белого цвета как освобожденного от земных ассоциаций – интуитивное у П. Кузнецова и программное и теоретически обоснованное у Малевича. Не случайно именно «белую серию» принято называть «мистическим супрематизмом», ее идейная основа – представление о мире, стремящемся к высшей ценности – покою, равному небытию (трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой»).
Авангард начинает с отталкивания от символизма и постепенно приходит к освоению его опыта – как дети, поначалу желающие ни в чем не походить на своих родителей и с годами становящиеся все больше на них похожими.
Малевич еще раз сближается с символизмом в поздний период творчества, когда потустороннее, космическое пространство начинает проникать сквозь контуры его фигур, а непостижимый мир сущностей – глядеть из их пустых овалов. Здесь на новом витке (перекликаясь в этом с сюрреалистами) Малевич возвращается к символистской идее двоемирия, ощущению ирреального начала, пронизывающего собой земное существование. При этом он синтезирует «знаковую» бесконечность супрематизма с пространственными координатами – отношениями верха и низа, плоскости и глубины – традиционного искусства.
Содержательные и формальные переклички, о которых шла речь, вряд ли можно истолковать как случайные. Между символизмом и авангардом, двумя важнейшими этапами русского искусства начала ХX века, существует глубинная внутренняя связь. Ее легче обнаружить на мировоззренческом, чем на формально-стилистическом уровне. Проблема пространства, на мой взгляд, как раз позволяет это сделать: пространственное мышление вообще тесно связано с мировоззренческим аспектом. И символисты, и художники авангарда видели в искусстве нечто большее, чем изображение реальности, стремились сделать искусство «миропониманием» (А. Белый), «мироотношением» (Малевич), иными словами – учением, возвещающим иное, более истинное знание, чем это могли дать позитивная наука и традиционная религия. Отсюда их тяготение к сущностным вопросам бытия и попытка обновления способа художественного познания: замена образа сначала символом, затем знаком.
Между самоопределением и самоотрицанием: театр и живопись в преддверии авангарда 164 164 Опубл.: Русский авангард 1910–1920‐х годов и театр / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. СПб., 2000. С. 3–15.
Тема этой статьи – некоторые параллели в живописи и театре на пути от символизма к авангарду. Сравнение разных видов искусства всегда уязвимо, в особенности если эти искусства активно взаимодействуют и взаимовлияют. Поэтому сразу хотелось бы отделить от названной темы ее важный аспект – работу живописцев в театре и театрализацию живописи или жизненного поведения художника – и сосредоточить внимание только на материале станковой живописи и драматического театра как наиболее специфических формах этих искусств. В качестве стержневого начала, позволяющего провести сравнение, может быть взята характерная для авангарда тенденция пересмотра основных дефиниций данного вида искусства. Изобразительное искусство перестает определять себя через функцию изображения, живопись отказывается от живописания, театр мечтает разрушить деление на скену и театрон , действующих лиц и зрителей. В новой системе представлений живопись определяет себя через качества формы: цвет (краску), фактуру, композицию, материал, линию и т. п. Процесс пересмотра осуществлялся под лозунгом освобождения «живописи от неживописи», то есть от изобразительного начала, идеологии и т. п., подобно освобождению слова от порабощения смыслом, театра – от порабощения литературой. Искусство поставило целью достичь максимальной свободы и самодостаточности. Однако, освободившись от функции подражания, живопись в силу той же максималистической тенденции начинает отрицать себя, за открытием беспредметности следует выход в реальное пространство и конструирование вещей. В иной форме обе тенденции – самоутверждения и самоотречения – присутствовали и в театре. Их динамика во многом и обусловила различие выходов этих искусств в авангард.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: