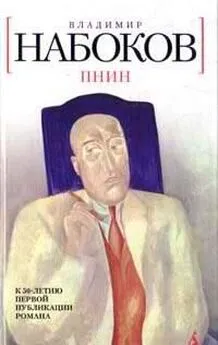Владимир Набоков - Пнин
- Название:Пнин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01851-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Пнин краткое содержание
Четвертый англоязычный роман Владимира Набокова, жизнеописание профессора-эмигранта из России Тимофея Павловича Пнина, преподающего в американском университете русский язык, но комическим образом не ладящего с английским, что вкупе с его забавной наружностью, рассеянностью и неловкостью в обращении с вещами превращает его в курьезную местную достопримечательность. Заглавный герой книги — незадачливый, чудаковатый, трогательно нелепый — своеобразный Дон-Кихот университетского городка Вэйндель — постепенно раскрывается перед читателем как сложная, многогранная личность, в чьей судьбе соединились мгновения высшего счастья и моменты подлинного трагизма, чья жизнь, подобно любой человеческой жизни, образует причудливую смесь несказанного очарования и неизбывной грусти…
Пнин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он был вовсе не так крепок, как можно было подумать, глядя на его могучую вздутую грудь, и волна безнадежной усталости, которая вдруг накрыла его тело головастика, словно отторгнув его от реального мира, не была для него вовсе уж незнакомой. Он находился в сыром, зеленом, отливавшем пурпуром, строго, по-кладбищенски расчерченном парке, где тон задавали мрачноватые рододендроны, блестящие лавры, обрызганные фонтанчиками тенистые деревья и аккуратно подстриженные газоны; едва он свернул на аллею, засаженную каштанами и дубами, которая, как успел ему буркнуть шофер, должна была вывести к станции, это странное чувство, этот озноб нереальности окончательно отнял у него силы. Может, он что-нибудь съел не то? Скажем, этот огурчик с ветчиной? Или это какая-то таинственная болезнь, которую ни один из его врачей еще не смог обнаружить? Мой друг недоумевал, да и я недоумеваю тоже.
Не знаю, было ли уже кем-нибудь отмечено, что одним из главных условий продолжения жизни является ее укромность, сокрытость от глаз. Если оболочка плоти перестает окутывать нас, мы попросту умираем. Человек может существовать лишь до тех пор, пока он отгорожен от своего окружения. Череп — это шлем космонавта. Оставайтесь в его пределах, не то погибнете. Смерть — это разоблачение, раздевание, смерть — это приобщение и причастие. Чудесно, должно быть, слиться с окружающим нас пейзажем, однако, поступив так, мы покончим со своим хрупким я. Чувство, которое переживал сейчас бедный Пнин, и было чем-то весьма похожим на это раздевание, на это приобщение. Он ощутил себя пористым и уязвимым. Он обливался потом. Он испытывал ужас. Лишь каменная скамья, попавшаяся среди лавров, не дала ему упасть на дорожку. Может, это был сердечный приступ? Сомневаюсь. В данном случае я его врач, а я, да будет мне позволено повториться, сомневаюсь. Мой пациент принадлежал к тем редким и несчастливым людям, которые смотрят на свое сердце ("полый, мускульный орган", мрачно определяет его "Вебстеровский новый университетский словарь" {12} , который остался в осиротевшем саквояже Пнина) с брезгливым ужасом, истерическим отвращением и нездоровой ненавистью, словно это какое-нибудь склизкое, могучее и неприкасаемое чудище, паразит на нашем теле, с которым мы, увы, должны мириться. Случалось, что врачи, озадаченные толчками и переплясом его пульса, подвергали Пнина особо тщательному осмотру, и тогда кардиобормашина вычерчивала сказочные горные хребты, свидетельствуя о десятке роковых болезней, исключающих друг друга. Сам он боялся прикасаться к своему запястью. Он никогда не поворачивался на левый бок, даже в те удручающие ночные часы, когда всякий, кто страдает бессонницей, тщетно испробовав и один и другой бок, мечтает о третьем.
Сейчас, в парке Уитчерча, Пнин чувствовал то, что ему уже доводилось чувствовать 10 августа 1942 года и 15 февраля (день его рождения) 1937-го, и 18 мая 1929-го, и 4 июля 1920-го — что этот мерзостный автомат, который он приютил в своем теле, превратился вдруг в существо одушевленное и не только бесцеремонно зажил собственной жизнью, но и стал причинять ему страданье и страх. Прижав свою бедную лысину к каменной спинке скамьи, Пнин стал вспоминать прежние приступы подобного недомогания и отчаянья. Может быть, на сей раз это обычное воспаление легких? Несколько дней тому назад он до костей продрог, сидя на бодром американском сквозняке, какими в ветреный вечер обильно потчуют гостей здешние хозяева после второй рюмки. Пнин вдруг обнаружил (может, он все-таки умирал?), что соскальзывает в свое детство. Ощущению этому сопутствовала пронзительная острота и подробность воспоминаний, что, как говорят, является драматической привилегией утопающего и особенно часто случалось в старые времена в русском флоте — этот феномен удушья, как объяснял один ветеран психоанализа, чье имя я что-то не припомню, является результатом подсознательно всплывающего на поверхность шока, пережитого во время крещения и вызывающего между первым и последним погружением в воду взрыв переплетенных между собой воспоминаний. Все это происходит в долю мгновения, однако, чтоб изложить происшедшее, мы можем лишь прибегнуть к последовательному сочетанию множества слов.
Пнин происходил из почтенной и вполне состоятельной санкт-петербургской семьи. Его отец, доктор Павел Пнин, глазной врач с весьма солидной репутацией, имел однажды честь пользовать от конъюнктивита самого Льва Толстого. Мать Тимофея, очень нервная, хрупкая, невысокого роста, с коротко остриженными волосами и осиной талией, была дочерью известного в свое время революционера Умова (рифмуется с "зумоф", что означает, как известно, "взлетать") и немецкой дамы из Риги. В нынешнем его полузабытьи на Пнина наплывали глаза матери. Стоял воскресный день в разгаре зимы. Пнину было одиннадцать. Он готовил уроки на завтра для своей Первой гимназии, когда вдруг почувствовал, что странный холод пронизывает все его тело. Мать измерила ему температуру, с испугом взглянула на свое детище и немедленно вызвала педиатра Белочкина, лучшего друга своего мужа. Это был маленький бровастый человек с бородкой и ежиком волос. Разведя полы своего сюртука, он присел на краешек Тимофеевой постели. Началось состязанье между стрелкой толстых золотых часов доктора и пульсом Тимофея (последний победил без труда). Тимофея обнажили до пояса, и Белочкин прижал к его телу ледяную наготу своего уха и наждачную стрижку волос. Как плоская стопа какого-то одноногого чудища, ухо это вышагивало по груди и спине Тимофея, то вдруг приклеиваясь к какому-нибудь пятачку кожи, то перешагивая на другой. И не успел еще доктор уйти, как мать Тимофея и ядреная прислуга, зажимавшая между зубами английские булавки, запаковали маленького несчастного пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя пропитанной влагой полотняной ткани, из толстого слоя ваты, из плотной фланели и липкой дьявольской клеенки — цвета мочи и жара, — которая разделяла влажную ткань, прилипающую к коже, и душераздирающе скрипящую вату, вокруг которой была вдобавок намотана фланель. Бедная куколка в коконе, Тимоша (Тим) лежал под целым ворохом одеял; но ничто не спасало его от озноба, который от леденеющего позвоночника расползался по ветвям его ребер. Он не мог закрыть глаза, так сильно горели веки. В глазах у него стоял лишь овал боли, пронзаемый косыми уколами света; в знакомых очертаниях и предметах плодились злые виденья. Возле его кровати находилась четырехстворчатая ширма из полированного дерева, на которой выжжены были рисунки, представляющие вьючную тропу, накрытую войлоком опавшей листвы, пруд с лилиями, скорченного старичка на скамейке да белку, держащую в передних лапках какой-то красноватый предмет. Тимоша, дотошный мальчик, и раньше часто размышлял, что бы это мог быть за предмет (орех? сосновая шишка?), и вот теперь, не имея больше занятий, он взялся разгадать унылую эту загадку, однако жар, наполнявший гудом его голову, топил любое усилие его мысли в волнах страданья и страха. Еще более удручающей оказалась борьба с обоями. Он всегда замечал, что сочетанья трех разных пурпурных соцветий с семью неодинаковыми дубовыми листьями чередуются по вертикали с умиротворяющей точностью; сейчас его, однако, тревожило истинное наважденье, которое заключалось в том, что ему ни за что не удавалось обнаружить, какой же системе соединений и завершений подчиняются повторы этих узоров по горизонтали; то, что повторы эти существовали, подтверждалось тем, что время от времени на пространстве стены от кровати до гардероба и от печки до двери он все же замечал появленье тех или иных элементов повтора, но, однако, лишь только он трогался в путь справа налево от любого им избранного сочетанья трех соцветий с семью листьями, как увязал в бессмысленной путанице рододендронов и дубов. Казалось логичным, что если злокозненный рисовальщик — этот разрушитель сознания и спутник температурного жара — со столь чудовищным тщанием запрятал тайный ключ сочетанья узоров, то, возможно, ключ этот окажется столь же ценным, как самая жизнь, а будучи найден, сможет вернуть Тимофею Пнину и здоровье, и обычный его мир; эта прозрачная — увы, слишком прозрачная — мысль заставляла его упорствовать в своей борьбе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: