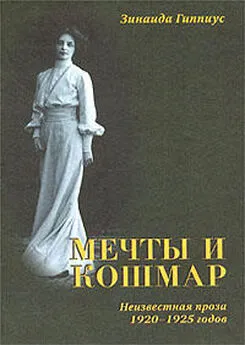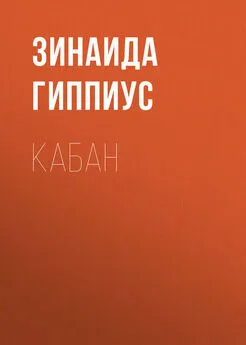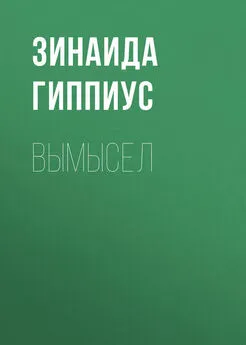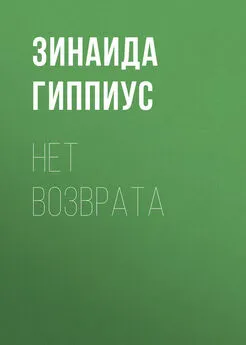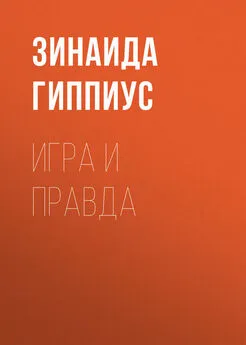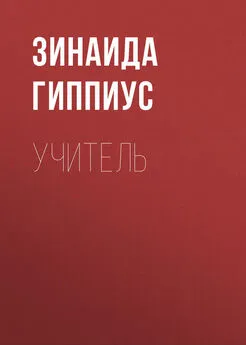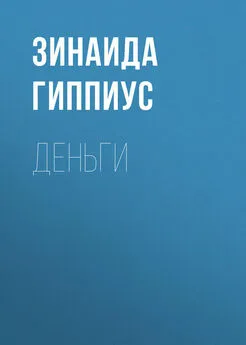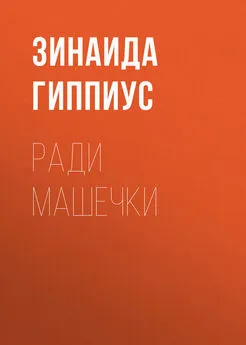Зинаида Гиппиус - Мечты и кошмар
- Название:Мечты и кошмар
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Издательство Росток
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94668-005-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зинаида Гиппиус - Мечты и кошмар краткое содержание
Проза 3. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Мечты и кошмар - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В чем же, однако, дело? Как мог талантливый писатель дать такую неудачную художественную книгу? Кто — Жорж, какую полосу заставляет его проходить автор?
Эта полоса — мазохизм. Не волошинский, не зайцевский мазохизм, все-таки положительный и — «поскольку — постольку» отразимый в искусстве. Мазохизм Жоржа — отрицательный. Он вынужденный и вырожденный в растерянное метанье, в беспорядочную кучу злобных вопросов без ожидания ответов.
В начале кажется, однако, что и Жорж, и дикогероический мазохист Волошин, и нежно-тихий — Зайцев, — все они вместе и говорят одно: «Что менялось? Знаки и возглавья? Ныне ль, давель — все одно и то же…» «То же, что было и раньше… Чем я отличаюсь от комиссара? Все виноваты. Или все правы. Все прах земной, все пух…» «Все сон. Все стон любви, томленье смерти…»
Так равны, что и не разберешь, кто говорит. Все трое — вне борьбы, ибо не могут быть за одних или за других. Жорж как будто борется, но это художественная фальшь: нельзя бороться, говоря себе: «Истина разорвана на две части: одна у них, другая у нас» (впрочем, Жорж из борьбы и уходит).
Вместе… но вот черта, их разделяющая. Волошин говорит: «…стою меж них (меж борющихся) в ревущем пламени и дыме,
И всеми силами моими
Молюсь за тех и за других».
Безумная молитва, абсурдная молитва, от нее отвращается простое, не мазохистичное, сердце человеческое. Вот у Волошина она искренна. Он — молится. И Зайцев молится — благословеньем, издалека, и тех и других.
Герой «Коня» не молится, а судит «тех и других». Не благословляет, а проклинает. Не любит, а ненавидит. О жертве, даже о пылающей (волошинской) или истаивающей (зайцевской) вовсе не думает. Если б и погиб — ничего не искупила бы, ничего не завершила случайная жертва. Все превращается в случайность: и дела его, и пути его. Мутный образ Жоржа — сам образ мазохизма отрицательного, во все времена обреченного на бесформенность.
И, однако, в заключение, я скажу несколько слов, которые, может быть, покажутся противоречивыми. Но внутренняя логика не всегда совпадает с внешней.
Я скажу, что книга Ропшина все-таки существует. Она имеет не большую художественную ценность. В ней мало доброты, не много правды. Но в ней — страданье.
Когда страданье выражено, оформлено, и найден ему самоутешающий исход — его уже как бы нет. Волошин, бросаясь «и на тот и на другой» рожон, доходит до восторга; а безвольным истаиваньем своим — не доволен ли Зайцев? И замкнут круг.
Книга Ропшина никого не «соблазнит». Но в ней не замыкаются круги. Она сама живет, как почти непретворенный хаос.
Есть ли страданье в тех, старых, молодых и юных русских писателях, что потеряли чувство Прекрасного (Истинного и Доброго) или не успели его приобрести? Если есть — они живы. В меру страданья, которому не находят близкого утешенья, — живы и они.
Но страданье не надо ни судить, ни мерить. Можно только сказать: вот, оно — есть.
НЕОБХОДИМЫЕ ПОПРАВКИ
Не для того, чтобы оспаривать чьи-нибудь мнения о моей статье в «Совр. Записках», я прошу редакцию «Поел. Новостей» поместить эти несколько строк. Каждый волен иметь свои мнения, я — как другие. Но в критику моих критиков вкралось несколько фактических неточностей, порою даже описок, и несколько неясностей, которые я должен отметить, — хотя бы в интересах людей, мою статью не читавших.
Г. П. М. говорит, что я «стыдливо и скромно молчу о политике своих писателей». Но эта «стыдливость и скромность» — следствие моего договора с редакцией журнала, просившей меня не касаться факта принадлежности писателей к лагерю правому или левому. Писатели, художественный облик которых я зарисовывал, действительно мои, но не в том смысле, как хочет сказать г. П. М.; они мои вне лагерей, они мои, потому что все это лучшие русские писатели, цвет русской литературы, и ни при каких обстоятельствах ничья чисто художественная совесть не позволит поставить Пильняка рядом с Буниным, например. Да, мне пришлось большинство из так называемых «новых» писателей «замазать черной краской»; но таково мое художественное мнение (в котором каждый волен), и я не виноват, что цвет этой краски совпал с тем цветом, в который они окрашены и по моему политигескому мнению: они теснейшим образом, внутренно и внешне, связаны с современным российским режимом, а что он самая черная реакция — об этом никто не спорит.
Быть может, договор редакторов с писателем — «не касаться политики» — вообще ошибка; быть может, линия, ныне отделяющая «политику» от жизни, так неуловима, что нет ничего легче, при желании, уличить писателя, что он линию перешел. Но это другой вопрос принципиальный, и я его касаться не могу. Перехожу к исправлению неточностей и описок другого моего критика, г. Семена Юшкевича.
Он недостаточно информирован, когда, удивляясь моему «появлению» в «Совр. Зап.», строит все дальнейшее на утверждении: «До революции А. Крайний не имел никаких шансов быть напечатанным… рядом, скажем, с Ивановичем, Рудневым…» Для сведения г. Юшкевича и его читателей я скажу, что в продолжении пяти или шести лет я писал еженедельно в петербургской газете «День», где постоянным сотрудником состоял и Ст. Иванович. Сотрудничество мое прекратилось с последним ном. «Дня», в 18-м году, но, кажется, продолжал я еще писать в «Воле Народа» (насколько она пережила «День»).
Ввиду этих фактов, удивление г. Юшкевича может быть сочтено невместным и должно отпасть. Что касается возмутившего его моего мнения насчет «молодых Пильняков» — то я еще раз напомню, что в своих художественных «мнениях» каждый волен и, следуя этому первому правилу свободы, я нисколько не мешаю г. Юшкевичу находить писанья и Пильняков, и Кусиковых высокохудожественными. Я действительно их отрицаю, вот этих пролетписателей «собственного», как я выразился, насаждения: и я тут же, очень ясно и отчетливо, подчеркнул, что предлагаю взглянуть на них, и даже «на все происходящее в России только с эстетической точки зрения»; и что именно с этой точки зрения — «бесспорно: никогда еще мир такого уродства не видал». Г. Юшкевич (по недосмотру, конечно) опустил все начало цитаты, что и позволило ему обличать меня «в контрабандном провозе» куда-то какой-то неугодной ему политики.
Нервность же, с которой г. Юшкевич берет под свою защиту Горького, и неожиданная плоскость, куда он эту защиту переносит, — повергают меня, прежде всего, в величайшее недоумение. Чего и каких «доказательств» требует совесть защитника? Что Горький — писатель малохудожественный? Но это мое мнение я доказываю двадцать лет, как обыкновенно доказывают и защищают свои мнения писатели. Я не убедил г. Юшкевича? Пусть он представляет доказательства обратного, он в этом волен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: