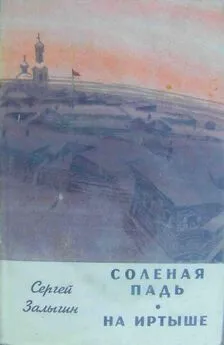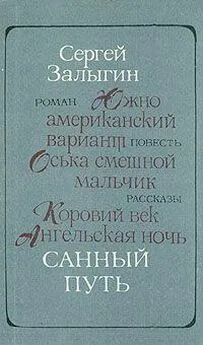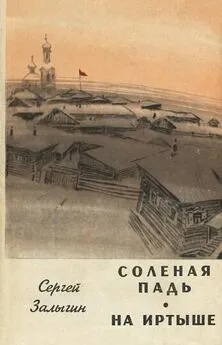Сергей Залыгин - НА ИРТЫШЕ
- Название:НА ИРТЫШЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Залыгин - НА ИРТЫШЕ краткое содержание
«На Иртыше» — повесть, посвященная 1931 году, село Крутые Луки. В центре история Степана Чаузова, которого высылают как пособника кулака — он приютил семью раскулаченного. Драма Степана Чаузова в том, что благородство, приверженность к новой жизни уживаются в нем со старыми убеждениями, выработанными всей прошлой мужицкой жизнью.
Современность истории (Л. Теракопян). Послесловие — посвящено творчеству С. Залыгина.
НА ИРТЫШЕ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другой источник — это взаимоотношения внутри самого лагеря восставших. Взаимоотношения сложные, драматические по целому ряду субъективных и объективных обстоятельств. Единые перед лицом врага, в своем неприятии прошлого, люди далеко не одинаковыми глазами смотрели в будущее, даже ближайшее. Отсюда непрекращающиеся споры о характере власти, ее задачах, о методах борьбы с белыми. Споры закономерные, поскольку все, что совершалось на Освобожденной территории, совершалось впервые. И совершалось в отрыве от Большой земли, от центров революции, на свой манер, в силу своего разумения, при отсутствии достаточных знаний у вожаков. «Еще не настоящая у нас, не фабричная работа, — с горечью признает Мещеряков, — а каждый делает на свой лад. Уже сейчас не жалко кое-что побросать как негодное».
Народ сам устраивал жизнь, сам устанавливал порядки. Устанавливал основательно, по-хозяйски, с великим желанием устранить все чуждое, устарелое, но и с предубеждением против поспешности. «Горы-то двигать тоже надоть знать, в какую сторону? — предостерегает один из партизан. — Чтобы на себя не свалить…» И к этой проблеме писатель подходит, вооруженный знаниями не только конкретной обстановки, но и последующего исторического опыта, позволившего ему увидеть в прошлом то, что не всегда замечалось другими авторами.
Действие и философское осмысление его неразделимы в романе Залыгина. Здесь все подвергается народному суду, особенно придирчивому и требовательному в годы крутого исторического перелома: и методы, и призывы, и поступки, и самые личности вожаков, коммунистов. Да, и личности. По ним, по их поведению, нравственному облику люди судили о самих большевистских идеях. И не прощали ни малейшего расхождения между словом и делом, ни малейшего своекорыстия. «Ведь идея — она же не сама по себе, ее глазами не углядишь, руками не нащупаешь, — заявляет на собрании партячейки Лука Довгаль, — она — это мы с вами! Она для всех масс такая и есть, какие мы с вами для них являемся». Лука не знает границ в своей требовательности к товарищам по партии, к чистоте великого звания коммуниста. Он готов исключить Никишку Болезина за одно то, что тот купил на базаре картину с тремя конными богатырями. Возмущение Довгаля наивно, но оно идет из глубины его честного, неподкупного сердца и вполне в духе эпохи: «Да ежели мы, все члены нашей самой чистой в мире партии, увешаем свои избы картинками, не глядя, что сосед, может, в ту минуту о куске думает и вообще в два, а может, и в три раза в имущественном положении меньше тебя имеет, — какое мы покажем тогда движение к своему будущему, к свободе, равенству и к братству?»
Рассуждения Довгаля показательны для духовной атмосферы романа. Они выражают мечту о новой нравственной норме человека. Норме небывалой и необычайно высокой, поскольку в ее основе принципиально иные измерительные категории.
Старик Власихин во время суда над ним высказывает поразительно глубокую мысль: «От большой беды уходим. И да-алеко еще от нее должны уйти, чтобы она к нам вновь и еще сильнее не пристала! Все должны наново переменить, всю свою жизнь. Сможем ли? Одно знаю — другого исхода нынче нет!»
Он имеет в виду не только ту беду, что ощетинилась колчаковскими штыками вокруг Освобожденной территории, но и ту, что — в самих себе, так называемые родимые пятна прошлого. Пятна живучие и не вдруг поддающиеся искоренению. Взять, к примеру, начальника главного штаба Соленой Пади Ивана Брусенкова. Нет никаких сомнений в его ненависти к старому строю, к эксплуатации. Он весь — сплошное отрицание. Отрицание богатства, собственничества рабьей покорности. Но и не только этого, Брусенков отрицает прежнюю жизнь целиком, без разбора. Он ставит на одну доску капиталиста и балерину, буржуазную культуру и великие духовные ценности прошлого, продажную, пресмыкающуюся перед сильными мира сего интеллигенцию и интеллигенцию, интеллигентность вообще. Он одержим стремлением разрушать, разрушать безжалостно, до конца, не считаясь с потерями. И если что-то в жизни было «не тем», Брусенков готов уничтожить самую жизнь, целые народы обвинить в недостатке решимости и сознательности: они, мол, сами виноваты, что их миллионами угнетают. Он призывает торопиться делать революцию, «пока горячо, пока не остыло, пока мы на жертвы готовые на любые, а капитал всей опасности не осознал».
Однако торопливость его — от неверия в массы, от страха, что буржуазия, осознав опасность, сможет подачками развратить их, сбить революционное пламя. Вот и спешит он подливать масло в огонь, обрекать на гибель тысячи, не считаясь даже с утратой завоеваний: «пусть белые придут! Пусть порушат нас! Это что будет значить? А то и будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче сделается. Еще больше массы поднимутся и осознают свое великое дело!» Интуитивно, по собственной догадке подходит Брусенков к тем неведомым ему теориям, что проповедовали в начале гражданской войны да и сейчас еще проповедуют пресловутые левые р-революционеры. Ведь помним же мы, к чему призывали эти левые в горькие дни Брестского мира: «В интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты Советской власти, становящейся теперь чисто формальной». «Тактикой отчаяния», настроением «глубочайшего, безысходного пессимизма» назвал тогда Ленин такие подстрекательские призывы.
Я не провожу здесь строгих параллелен и далек от мысли об исчерпывающих аналогиях. Важно иное: перед нами не придуманная, не пересаженная из другого периода, а характерная для своего времени фигура. И что самое парадоксальное — методы Врусенкова, этого яростного отрицателя старого, скопированы со старого же, с волчьих законов мира эксплуатации: «А держится все на том, кто кого сильнее, кто из кого крови больше может выпустить, кто ее не боится этой крови. Это и в большом и в самом малом».
При таком взгляде на вещи герой и во власти видит но более, чем узду, средство принуждения. Слова о счастье, ради которого льется кровь, воодушевление созидательными целями — все это — пустые сантименты: «Учение им нужно, и учение без пряника — вовсе другой мерой!» Просто диву даешься, сколь глубоко усвоил этот человек «классические» приемы буржуазной политики: и склонность к демагогии (одно дело митинг, другое — практика), и привычку к единоличным решениям, и дипломатию интриг, и пренебрежение к действительным интересам масс, и высокомерие по отношению к ним: «Власть — она не для уговора, она — опять же для власти… — внушает он на совещании руководителю Луговского штаба Кондратьеву: — Это здесь место говорить по-интеллигентски. А дома у себя? Знаю, какой ты интеллигент у себя в дому! Там тебе известно, что нам, мужикам, уговоры — тьфу! Что есть они, что их нету!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: