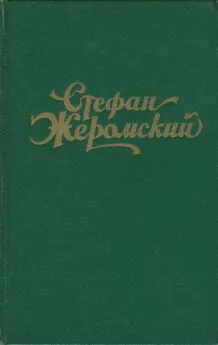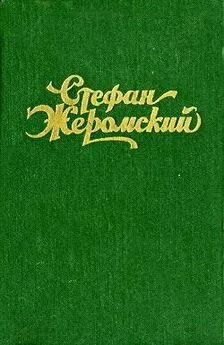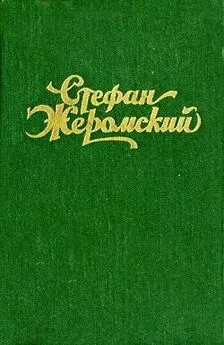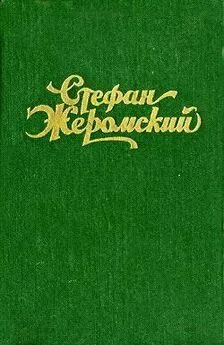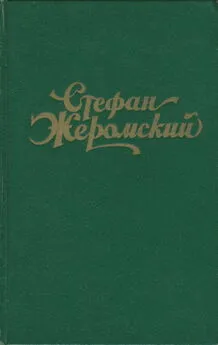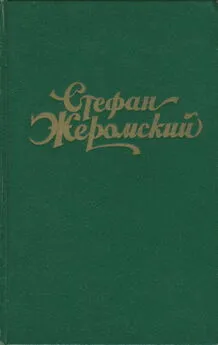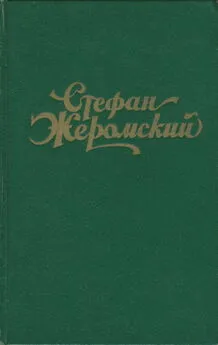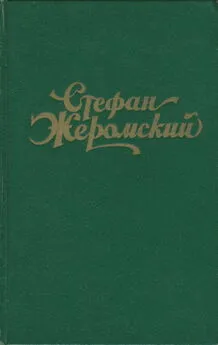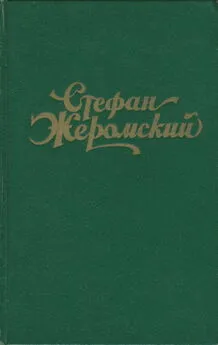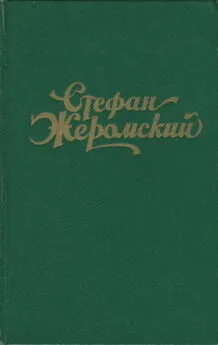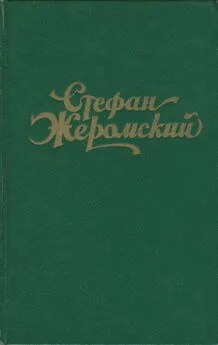Стефан Жеромский - Доктор Пётр
- Название:Доктор Пётр
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1957
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Жеромский - Доктор Пётр краткое содержание
Впервые напечатан в журнале «Голос» (Варшава, 1894, №№ 9—13), в 1895 г. вошел в сборник «Рассказы» (Варшава, 1895).
В переводе на русский язык рассказ впервые был напечатан в журнале «Русская мысль», 1896, № 9 («Доктор химии», перев. В. Л.). Жеромский, узнав об опубликовании этого перевода, обратился к редактору журнала и переводчику рассказа В. М. Лаврову с письмом, в котором просил прислать ему номер журнала с напечатанным рассказом. Письмо Жеромского В. М. Лаврову датировано 14. X. 1896 г. (Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства).
Доктор Пётр - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стая воробьев грелась, сидя на ветвях сухой вербы, и чирикала так, словно хотела поднять тревогу. Расправив, как индюки, крылья, воробьи стряхивали с веток иней и лед и нетерпеливо долбили клювами увешанное сосульками трухлявое дерево. Мне казалось тогда, что вся эта стайка поет прекрасную, никогда еще не слышанную песню, и песня эта берет за сердце. Но вот потекли первые весенние воды, быстрые, стремительные и обильные, как слезы нежданного счастья. Они струились по бороздам, прокладывали себе путь в посинелой колее, прорезанной санными полозьями, тихо и весело журча, текли поверх снежного покрова. В нашем ручье поднялась вода, образовались шумные водовороты, обнажились берега, и по ним, как гной, медленно стекала желтая жидкая, размокшая глина. Стволы прибрежных берез уходили в воду и корнями жадно всасывали животворную влагу…
Я просто одурел от радости: пускал ручейки, помогал низвергаться водопадам, рыл канавы, строил плотины. От всего сердца радовался, что стало тепло оледенелым стеблям, что уже ни один воробей не замерзнет, и первый раз в жизни протягивал свои детские ручонки к великой тайне природы…
Сохранилось ли еще это место? Вопрос, достойный доктора Петра Цедзины, — не правда ли? Что ж! Человек, которому отняли изувеченную руку, постоянно ощущает боль в пустоте по всей длине отнятой руки. Часто после крепкого сна я просыпаюсь с этой неуемной болью в пустоте. Вот придет новая весна… Я увижу ее в туманах, подернутую, копотью фабрик, и там, как и здесь, душу мою будут терзать когти вампира… И так всю жизнь, без конца…
Я забыл, о чем, собственно, хотел тебе писать, старик, дорогой мой старик… Один я на свете, и ты у меня как бы другая моя половина, оторванная и томящаяся далеко — далеко в тюрьме половина моей души. Не сердись на меня за то, что я пишу тебе неинтересные вещи, — я пишу как будто самому себе… Итак, когда я стоял на берегу озера, мне было очень тошно. Большие, прозрачные, светло — зеленые волны катились одна за другой из каких‑то неведомых мест, скрытых во мгле, ударялись о берег, разбивались об острые камни, и каждая из них, уходя в глубину, казалось, шептала со вздохом: «Ты — как муравей, выросший в лесу и занесенный вдруг ветром на середину пруда [5] Строка из стихотворения А. Мицкевича «Морлак в Венеции» (1827–1828).
…»
Пан Доминик со злостью бросает письмо и, подперев руками подбородок, сидит нахохлившись, как коршун. Его не терзают уже фантастические, отвлеченные образы, зато бесконечной вереницей тянутся в голове вполне логичные, но не менее мучительные мысли. Отчего так кончается жизнь? Почему все это случилось? Отчего единственный сын не слушает ни просьб, ни заклинаний, ни увещаний, ни приказаний и, вместо того чтобы оправдываться, пишет какие‑то сентиментальные, непонятные вещи? Отчего он не возвращается?
Если бы он только приехал, можно было бы найти для него, пусть по протекции и не без хлопот, но все же прекрасное место, невесту с приданым… Отчего же он не едет?
Ясное дело, — отвечает сам себе пан Цедзина, — человек не может жить и работать, если кто‑то не жил до него и не работал для него. Кто же это? — Отец. Породив сына, отец еще не дает ему жизни; он только обещает дать ему жизнь, он начинает с воспитания и, только оставив сыну наследство, обеспечивает его и завершает свое дело. Именно поэтому людям необходимо право наследования. Оно является тем звеном, которое связывает умирающие поколения с нарождающимися, оно необходимо с точки зрения физических потребностей, оно создает и увековечивает семью. Семья без наследства — это бессмысленный, тяжелый союз, пытка, навязанная человеку провидением… Такое проклятие лежит и на нас с Петрусем! Наследство — отличительный признак человеческого общества; благодаря ему вместе с плодами своих трудов отец передает сыну свои впечатления, понятия, думы, открытия и догадки — словом, все то, что сам он мог добыть лишь путем долголетнего опыта. Сын, начиная с того места, где остановился отец, идет все дальше и дальше по пути обогащения, а также духовного развития, и труд таким образом переходит из рук в руки, накопляется, развивается, поддерживается и образует подножие, на котором все выше и выше возносится… цивилизация. Если кто однажды потерял свое место в этом поступательном движении общества, то он уже больше его не займет, и если отец не умел трудиться, сын будет страдать безвинно, и несчастье будет переходить из рода в род. Наследство удерживает детей у домашнего очага и дает возможность старикам удовлетворить их последнюю и потому, быть может, такую сильную и неукротимую страсть — страсть общения с потомками…
— Я лишился всего этого, — шепчет пан Доминик, сжимая виски, — и лишился безвозвратно! Голос старости вопрошает, где дух мой и плоть моя, а я — как скульптор, у которого в назначенный срок требуют оконченную статую, а у него только идеальный образ ее в душе и ни куска глины в руках. Восемнадцатилетнего юношу я отпустил одного, без копейки денег за границу… что же удивительного в том, что он вырос иным, современным человеком, совершенно не соответствующим моим представлениям. Чем же я могу привлечь его к себе? Любовью, безысходной тоской по нем?.. Что нас связывает? Разве только фамилия, которой он, по нынешним обычаям, совсем не дорожит. Он современный человек: он сделает что захочет и поступит как захочет.
В мое время сын находился во власти отца, повиновался ему, почитал его и не имел права уйти от него под страхом сурового осуждения общества, он не огорчал отца, потому что над ним тяготел неумолимый и властный неписаный закон. С той поры, как исчез наш шляхетский обычай, перестал существовать и этот неписаный закон. Сыновья наши разбрелись по свету… Они ищут новой правды. Не обращая внимания на зной и усталость, они идут вперед по тернистой дороге: им кажется, что на ближайшем холме они найдут не только это сокровище, но и спокойствие духа. Нас от этой погони за правдой удерживала мудрость родителей, доказывавших нам, что все наши надежды — лишь пустой мираж. Их не удержит ничто, в их душах нет мягкости, нет чуткости. Слабы и ничтожны были их отцы. Ах, велика наша вина… да только ли наша?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: