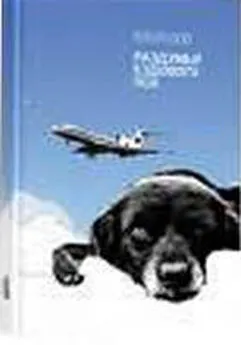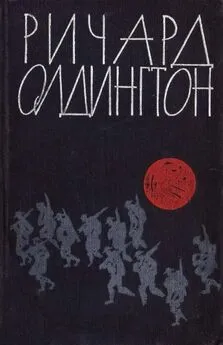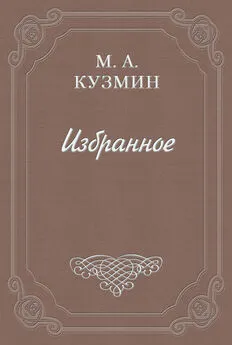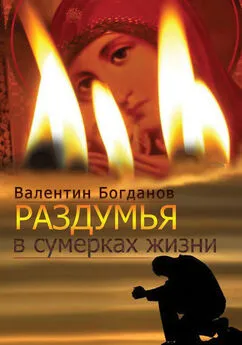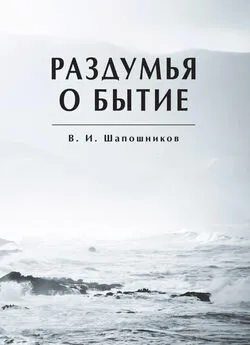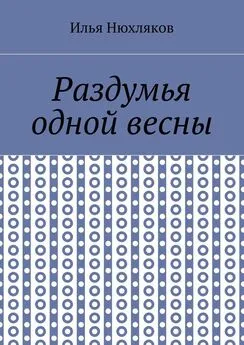В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Название:РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ краткое содержание
В новой книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова представлена его публицистика. В ней, как и в художественном творчестве писателя, главное — это радение о слаженной, гармоничной жизни человека на родной земле. Некоторые статьи посвящены размышлениям об отечественной культуре и искусстве; в них утверждаются реалистические традиции.
Несомненный интерес для читателя представляют документальная повесть «Раздумья на родине» — рассказ о судьбе родной писателю деревни Тимонихи Вологодской области и очерк «Дважды в году — весна» о поездке писателя в Италию.
РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Размышляя о хронической недостаче животноводческих кадров, многие считают, что стоит лишь построить жилье — и проблема снята. Увы, это далеко не так. То есть, конечно же, без жилья-то и совсем ее не решить! Но одного жилья, оказывается, мало. Недавно мне рассказывали о таком факте: благоустроенный совхозный дом, построенный под боком у горожан, пустует, желающих жить в нем и работать в совхозе не оказалось. И это несмотря на хорошие заработки.
Конечно, в глубине района новые дома не пустуют. Но это не значит, что задача кадрового обеспечения животноводства да и вообще сельского хозяйства вдали от города, вдали от железной или асфальтовой дороги решается легче. Найти доярку в глубинке стало теперь так же трудно, как и вблизи асфальта. Может, даже труднее.
Выполнение Продовольственной программы вплотную соприкоснулось с последствиями общей демографической ситуации. Мой родной Харовский район более-менее типичен в этом смысле для всего Северо-Запада, для всего Нечерноземья. Перед войной в районе (при той же территории) проживало 51,2 тысячи человек, а сейчас только 27,7 тысячи. Из этого числа городское население составляло соответственно 7,4 тысячи и 13,1 тысячи. Таким образом, число сельских работников сократилось за этот период без мала на тридцать тысяч. Вместе с ним сократились и площади обрабатываемой земли, хотя процесс механизации производства шел достаточно интенсивно.
Две войны — финская и Великая Отечественная — унесли из района тысячи мужского, как говорят ученые, самодеятельного, населения. Только из моего родного нынешнего колхоза «Родина», на землях которого в сорока трех деревнях жило до войны около шестисот семидесяти семей, ушло на войну и погибло на фронтах триста сорок мужчин. (Я не считаю здесь умерших от фронтовых ран вскоре после войны.) Чуть ли не каждая семья принесла свою жертву, в некоторые деревни не вернулось с войны ни одного мужчины…
Но процесс обезлюдения продолжался и после войны. Так, по переписи 1959 года в деревнях проживало 30,5 тысячи человек, а в 1982 году, как уже говорилось, всего лишь 14,6 тысячи. С 1950 года по настоящее время в районе исчезло с лица земли около ста деревень. Решающую роль во всем этом сыграло, на мой взгляд, не столько низкое экономическое положение тогдашних хозяйств, сколько административное их объединение, не оправданное местными условиями.
Сейчас из четырехсот тридцати трех оставшихся деревень обитаемыми остались только триста семьдесят восемь, а пятьдесят пять деревень брошены из-за бездорожья и пустуют.
С тем, кто считает подобный процесс прогрессивным, необходимо спорить и спорить. Причем опять же при помощи цифр и фактов. А факты — упрямая вещь. Клич на форсированную концентрацию производства уже не везде звучит так убедительно, как это было вначале. Многие хорошие руководители хозяйств убедились в его поспешности.
Я не зря говорю именно о хороших руководителях, так как дурные и восприняли разговор о концентрации по-дурному: для них «концентрация» явилась синонимом «ликвидации». Ведь нет ничего проще отключить свет от дальней деревни, закрыть магазин и пекарню, объединить медпункты, ликвидировать не только начальную школу, но и восьмилетку, а всех детей отправить в школу-интернат, расположенную, разумеется, в городе. Тот, у кого не болит душа за будущее, — сразу «убивает» несколько «зайцев»: ему не надо строить внутрихозяйственных дорог, отпадает лишняя забота о торговле и медобслуживании. Да и само руководство в таких случаях облегчается. Достаточно позвонить по телефону или объявить с вечера наряд на работу по местному радио. А то, что исчезают не только отдельные животноводческие фермы, но и целые производственные бригады, что поголовье скота не увеличивается, а покосы и пашни сокращаются, это как-то умалчивается, сходит с рук. Что значит ликвидировать хотя бы и мелкую ферму или отдельную бригаду? Это значит лишить работы остающихся колхозников и вынудить их к переселению на центральную усадьбу. Это во-первых. Во-вторых, сразу или постепенно исключить из хозяйственного пользования многие гектары пашни, окончательно забросить остатки лугов, лесных покосов и пастбищ. (Кстати, по самым скромным подсчетам пашенные земли в области за сорок лет сократились на 400 тысяч га. Только за последние 15 лет заросло лесом и кустарником либо заболочено около 250 тысяч гектаров покосов, которые испокон веку играли главную роль в заготовке кормов. Пастбища уменьшились, по данным ЦСУ, с 815 тысяч до 317 тысяч га.) Наверняка и в других областях дело обстоит не лучше, а в некоторых, может, и еще хуже. Ясно, что никакая мелиорация за такими темпами не угонится. Вот чем оборачивается односторонняя и бюрократически понятая концентрация производства!
Читатель должен понять меня правильно: я вовсе не призываю к сокращению капиталовложений в сельское хозяйство Нечерноземья. Я лишь за разумное использование средств, отпущенных государством. Ведь нередко случается так, что затраченные деньги не оправдывают себя. Что, например, толку от нового комплекса, если поблизости нет жилья? Или: зачем начинать крупное строительство, если к стройплощадке не проехать даже на гусеничном ходу? Не лучше ли вначале построить дорогу, а уж после и начинать мелиорацию? Ведь и денег потребовалось бы меньше, и техники, и рабочих рук. Ведомственная реализация и освоение средств во имя собственно реализации, собственно освоения, без учета иных, пограничных нужд, дорого обходится государству.
Итак, по-прежнему требуется доярка. То, что нынче доярку называют оператором или мастером машинного доения, мало что изменило. Десятиклассники по-прежнему очень туго идут работать в животноводство. Дело дошло до того, что дети колхозников заключают краткосрочные договора на работу в колхозе. Поработав годика два, разъезжаются кто куда, правление заключает договора со следующим выпуском… Но где же ее взять, эту самую доярку? Или телятницу? Один мой знакомый председатель утверждает, что проблема доярок была бы сразу же решена, если б расформировать хотя бы по одному главку в каждом министерстве да и послать этих людей в колхозы. Шутки шутками, а дело серьезнее, чем кажется. Многочисленные специалисты в Госплане, в главках и министерствах, в областных управлениях и всевозможных районных организациях весьма далеки от нынешних забот председателя. Да и сами-то председатели нередко думают только о сегодняшних, даже сиюминутных заботах. Мало кто всерьез размышляет даже о ближайшем, не только отдаленном будущем. А ведь надо бы соображать, что доярка нужна не только для выполнения Продовольственной программы. И мне осталось сказать: выражение «требуется доярка» безнравственно и ограниченно по самой своей сути. Давайте говорить прямей и точней: требуется невеста. А еще точнее — жена…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: