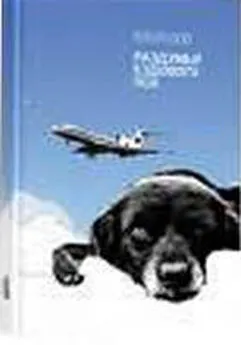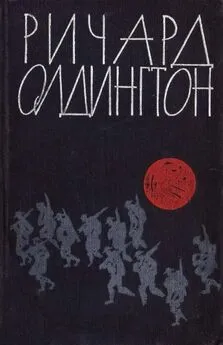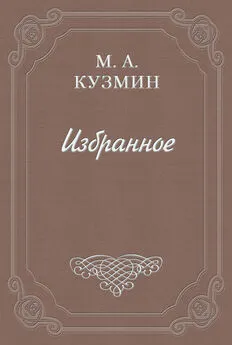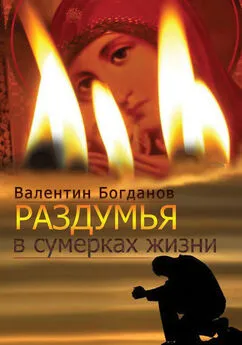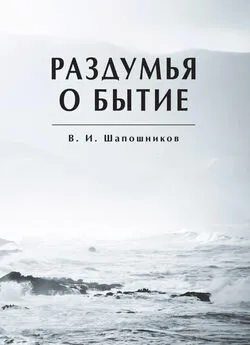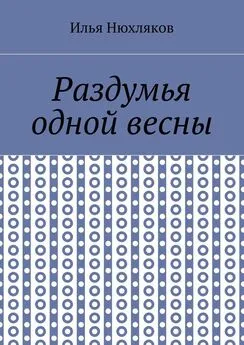В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Название:РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Белов - РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ краткое содержание
В новой книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова представлена его публицистика. В ней, как и в художественном творчестве писателя, главное — это радение о слаженной, гармоничной жизни человека на родной земле. Некоторые статьи посвящены размышлениям об отечественной культуре и искусстве; в них утверждаются реалистические традиции.
Несомненный интерес для читателя представляют документальная повесть «Раздумья на родине» — рассказ о судьбе родной писателю деревни Тимонихи Вологодской области и очерк «Дважды в году — весна» о поездке писателя в Италию.
РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
Помнится, еще во время войны на наших деревенских гуляньях каждая средняя деревня была представлена одной, а то и двумя дюжинами ребят и девушек. Соотношение полов было примерно равным, поскольку невесты погибших по гуляньям уже не ходили. На рубеже 50-х и 60-х годов в связи с укрупнением колхозов и другими неблагоприятными условиями картина резко меняется, многие деревни русского Северо-Запада полностью обезлюдели. Процесс этот продолжается и сейчас, он всего лишь слегка приостановлен. Приведу опять же пример с Харовским районом. С 50 года по настоящее время число деревень сократилось примерно на одну треть, более тысячи крестьянских дворов исчезло. Можно ли назвать все это прогрессивным явлением? Нет, нельзя. Если даже смотреть на это со стороны, например с точки зрения областного экономиста. Ведь несмотря на рост энерговооруженности, наши хозяйства не расширили, а сократили посевные площади. Из 24,5 тысячи га на пашни, имевшихся в Харовском районе в 40-м году, сейчас всего 18 тысяч га. Цифры сокращения лугов, пастбищ и лесных покосов вообще астрономические. Поголовье скота также сократилось. Исчезли не только десятки деревень, исчезли целые сельсоветы, например мой родной Дружининский и такие, как Низовский, Ильинский, Фроловский, Катромской. Интересно, что за последние годы отток мужской молодежи значительно сократился. Во всяком случае, многие ребята возвращаются из армии на родину, и демографическое равновесие лет эдак через 20–25 можно было бы восстановить. Если б… Если б не проблема невест. Помню, лет десять назад в нашем клубе деревни Лобаниха я насчитал десятка два ребят и всего… двух девушек. Уехали в город и эти две девушки. Ребята тоже частью уехали, остальные стремительно стареют, поскольку жениться не на ком, а в торговом обороте Шапшинского сельпо винно-водочные изделия занимают 25–30 процентов. Нельзя спокойно толковать о подъеме экономики, замалчивая факты социального «дискомфорта», как называют подобные ситуации ученые-демографы.
И впрямь, какой уж тут комфорт, если жениться не на ком, если ты обречен на вечное одиночество! Можно, конечно, поехать куда-нибудь на БАМ или на Самотлор, что и сделали те, кто поактивней. Но, во-первых, не каждый осмелится искать себе пару за тысячу верст в чужой стороне. Во-вторых, колхозу-то разве легче будет, если последние механизаторы уедут на Самотлор? Добавим, что и Самотлору от этого будет не легче, ведь из газа и нефти мы пока не научились делать ни сливок, ни мороженого.
Горькая судьба наших нечерноземных холостяков скрашивается, как уже говорилось, только работниками торговли. А эти товарищи чем-чем, а уж бутылками-то сельские лавки снабжают в достатке. Приходит, однако, и такая пора, когда ликвидируется даже и сельская лавка, поскольку райпотребсоюзу невыгодно содержать ее в немноголюдных местах. Примерно так же рассуждает и роно: зачем, дескать, содержать малокомплектные школы на 15–20 человек, не лучше ли отправить детей в крупные интернаты? Лучше, конечно, но лучше для работников роно, а не для колхоза и даже не для самих детей. Начисто оторванные с семилетнего возраста от родителей, от дома, от родного колхоза, они вырастают чуждыми всему этому, в том числе и родителям… Вслед за школой закрывается медпункт. Делается это примерно с той же аргументацией, и тогда уж самые консервативные, самые устойчивые домоседы начинают подумывать о переезде на центральную усадьбу. Однако же если ты снялся с родного гнезда, то не все ли уж равно, куда уезжать? Можно и не задерживаться на центральной усадьбе, махнуть в другой колхоз, а то в леспромхоз либо в райцентр, а то и подальше. В райцентре десятки организаций, большинство из них призваны обслуживать так или иначе сельское хозяйство, и каждая испытывает недостаток рабочих рук. И вот, глядишь, вчерашний колхозник уже ездит ежедневно на казенном транспорте из города в родные места — поднимать сельское хозяйство. Ездит, однако ж, не дальше центральной усадьбы. А родные его дома, покосы и полосы заброшены — может быть, навсегда. Да, сокращение покосов и посевных площадей стоит в прямой зависимости от сокращения численности деревень и населения в этих деревнях. Явно поторопились планирующие органы, отнеся в свое время к разряду «неперспективных» тысячи таких деревень. И что вообще означает термин «неперспективно»? Однажды в Коктебеле мне случайно попала в руки книжка, где были собраны научные рекомендации для государственных, планирующих и партийных органов на ближайшие 10–15 лет. Признаюсь, я был ошарашен той беспардонностью, с которой сельскохозяйственные и другие НИИ оперируют судьбами целых регионов и миллионов людей. В этих «рекомендациях» было расписано все, вплоть до того, сколько должно остаться деревень в той или иной области к 1990 году, сколько бутылок должен будет выпивать в год мой сосед-холостяк и т. д. и т. п.
Я вовсе не против хорошего планирования. Но почему же обязательно надо планировать заведомое сокращение населенных пунктов, то бишь нечерноземных деревень? Или водный дефицит на Волге? Может быть, все же лучше планировать сохранение, а не исчезновение этих деревень?
Немало надо труда, чтобы выключить из оборота участок веками окультуриваемой земли. За моей баней раскинулось древнейшее поле, гумусный черноземный слой его достигает в иных местах пятидесяти сантиметров, в других он не менее пятнадцати сантиметров (далее идет глина). Это поле, обрабатываемое когда-то двадцатью тремя семьями нашей деревни, теперь запущено, половина его глубоко взрыта тракторами и автомобилями. Сколько навозу было уложено моими предками в это поле! Чернозем этот был буквально создан руками здешних крестьян. Такие поля в дальних бригадах почему-то теперь заброшены и быстро зарастают ольхой, ивой, березняком. Наш колхоз «Северная деревня» еще в 1950 году имел шестьсот гектаров пашни и 1190 гектаров превосходных покосов. Нынче на этой же территории размещена одна четвертая бригада колхоза «Родина», и пашни у нее столько, что стыдно и говорить. Все остальное заросло кустарником, закочкарено, искорежено гусеницами. (На лугу, где дважды прошел гусеничный трактор, начисто разрушается дерновая структура, косить там становится либо нечего, либо просто нельзя из-за неровностей). Несомненно, что в ближайшие годы, если не принять срочных мер, выключатся из оборота и эти оставшиеся гектары, так как кое-кто уже подумывает о ликвидации не только четвертой, но и пятой бригады.
Чем же объяснить живучесть такого «подумывания»? Я долго, может уже несколько лет, пытаюсь разгадать эту загадку. Главная причина, разумеется, в бюрократизме, как известно всегда снижающем личную ответственность, позволяющем укрыться за инструкцию, за рекомендацию сверху и т. д. Бюрократу как воздух необходимы все эти перестройки, централизации и концентрации, без них он просто задыхается, без них ему просто нечего делать. Телефонное руководство всегда оставляет возможность положить трубку. По телефону тебя не будут держать за пуговицу, не смогут поглядеть тебе прямо в глаза, не заметят, если ты покраснеешь. Можно и в сенокос спать до восьми утра…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: