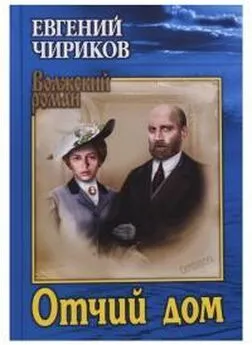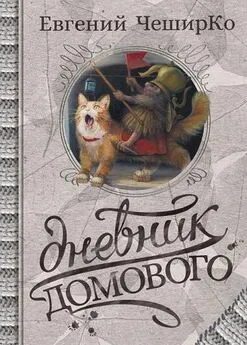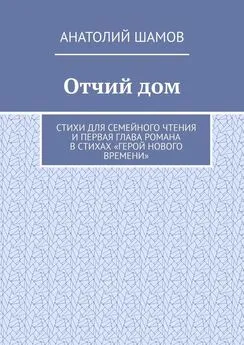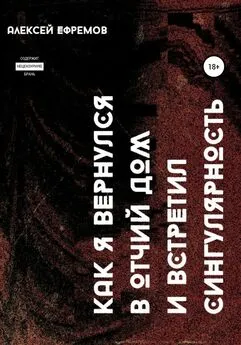Евгений Чириков - Отчий дом. Семейная хроника
- Название:Отчий дом. Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак 2000
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-902152-81-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Чириков - Отчий дом. Семейная хроника краткое содержание
В хронике-эпопее писателя Русского зарубежья Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932) представлена масштабная панорама предреволюционной России, показана борьба элит и революционных фанатиков за власть, приведшая страну к катастрофе. Распад государства всегда начинается с неблагополучия в семье — в отчем доме (этой миниатюрной модели государства), что писатель и показал на примере аристократов, князей Кудышевых.
В России книга публикуется впервые. Приведены уникальные архивные фотоматериалы.
Отчий дом. Семейная хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот «интеллигенция» сражается: у одного богатыря вместо палицы — мужик, у другого — рабочий. О «героях», впрочем, уже не стоило спорить: они давно вывелись, а новых не нарождается. В этом отношении — полная тишина и спокойствие, радующие нового молодого царя и утверждающие его в мысли, что советы мудрого старца Победоносцева [296] Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — юрист, государственный деятель, обер-прокурор Синода. Автор манифеста 29 апреля 1881 г. об укреплении самодержавия. Проводник консервативного курса, противник парламентаризма. После манифеста 17 октября 1905 г. вышел в отставку.
— правильны.
Ослепленный могуществом и властностью покойного отца, добрый, но слабовольный царь уверовал в водворенное благополучие, в гранитную верность и любовь народа и в беспочвенность всяких социальных и политических мечтателей. Видя свое царство и свой народ только из окон салон-вагона проездом из столиц в Ливадию [297] Ливадия — поселок в Крыму, где расположен Ливадийский дворец, ставший с 1861 г. летней резиденцией императора Александра II и императорской семьи.
или через зеркальное стекло коляски, проезжая по улицам попутных городов, принимавших тогда сугубо радостный праздничный вид и оглашавшихся немолчным «ура» наемных статистов, поставляемых субсидируемыми патриотическими организациями, — новый царь доверился льстивым и продажным царедворцам. Шайки провокаторов патриотизма своим звериным ревом заглушали все попытки одиноких и смелых граждан раскрыть царю глаза на грозящие опасности. Такие одинокие и смелые казались царю подозрительными, а потому организованным жуликам патриотизма ничего не стоило превращать их в покусителей на исконные устои русского царства…
Один из таких смелых написал царю [298] Автора обращения установить не удалось.
: «Крестьянство освобождено от рабовладельцев, но продолжает находиться в рабстве произвола, беззаконности и невежества; государство при таком положении ста миллионов жителей не может идти вперед»; царь только разгневался и почувствовал в смелом подданном — врага. Не пугала его и новорожденная социал-демократическая партия, ибо не грозила она ни бомбами, ни выстрелами…
Между тем новая интеллигентская вера росла, крепла и множилась последователями, разлагая и расшатывая все устои национального народничества. Молодежь, застигнутая идеологическим переломом, поболтавшись некоторое время в безверии, косяками, как рыба из моря в устья рек, поплыла к берегам марксизма. Ведь давно уже известно, что русский человек не может жить и быть без веры. Тут одинаково как у мужика, так и у интеллигента. Мужик издревле стоял на вере в Бога, Царя Небесного, и на вере в царя земного, а интеллигент переименовал Бога в «человечество», в «правду-истину и правду-справедливость» [299] Центральные понятия социологического учения народника Н. К. Михайловского, который под истиной понимал явления и законы реальной действительности, а под справедливостью — свободу личности, ее интересы и права.
, в свой «народ» (мужика). Но народническая вера, а с ней и мужик, призванный создать рай на земле, — развенчаны. Во что же верить? Надо же во что-то верить! Вон народоволец Михайлов [300] Михайлов Александр Дмитриевич (1855–1884) — революционер, один из организаторов «Земли и воли» и «Народной воли», участвовал в покушении на Александра II в 1881 г. В 1882 г. приговорен к вечной каторге, умер в Петропавловской крепости.
, казненный по процессу 1 марта 1881 года, именуя себя социалистом, написал все-таки: «Если Бог есть любовь, правда и справедливость, то я верю в Бога!» [301] Парафраз строк Первого послания Иоанна (Ин. 4, 8): «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
«Герой» развенчан. Человеческая личность принижена. Когда-то всякий гимназист старшего класса мог мечтать о славной роли благодетеля если не человечества, то своего народа. А теперь научно установлено, что в жизни царит всемогущая историческая необходимость, а доступное всем нам дело — только помогать ей при «социальных родах» [302] Парафраз высказанной К. Марксом в предисловии к первому изданию «Капитала» мысли: «Общество <���…> не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов».
. Вроде акушерки! Обидно, конечно, но против рожна не попрешь. Акушерка так акушерка! И тут утешение можно придумать: конечно, хочет или не хочет акушерка, но роды произойдут, как это всегда в жизни наблюдается, даже без акушерки. Но с акушеркой вернее: без нее младенец может появиться либо изуродованным, либо мертворожденным, а нередки случаи, когда и сама роженица отправляется на тот свет…
И вот молодежь спешила попасть если не в герои, то хотя бы — в акушерки, тем более что, по исследованиям ученых марксистов Струве и Туган-Барановского, Россия — в интересном положении: капитализм растет, как живот беременной женщины, а родится непременно социальная революция. Пес с ней! Хоть какая-нибудь революция! Столько поколений интеллигенции ждали и бредили этой заморской гостьей, а она все не приходит, надувает. С мужиком ничего не вышло. Авось выйдет с рабочим. Без веры невозможно…
Уверовали в «рабочего»…
А ведь еще Достоевский отметил: уж если русский человек во что-нибудь поверит, то не просто поверит, а уверует, сотворит себе из этого религию [303] «Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль» («Идиот». Ч. IV).
. Если, например, он перестанет верить в Бога, то даже из атеизма сотворит себе Бога!
Так было с молодежью. Иначе вышло с «отцами». Немногие, боясь очутиться за бортом исторического корабля, предали веру своих отцов и стали притворяться марксистами. Появился особый вид помеси народника с марксистом (породистого пса с дворняжкой) [304] Имеются в виду экономисты, литературные критики, историки, соединявшие народническую идеологию с убежденностью в существовании экономических законов развития, определяющих смену общественно-исторических формаций (исторический материализм). К ним относились, например, видные литературные критики Е. А. Соловьев-Андреевич, А. И. Богданович и др.
. Но большинство отцов старую веру утратили, а в новую не уверовали и пошли торной дорогой так называемого западничества: сперва все политические свободы и парламент, а там видно будет! Рассеянные на различной культурной работе на необъятных просторах провинции интеллигенты пожилого возраста очутились в положении людей без веры и без всяких путевых вех. На душе — сумерки, печаль, уныние, в работе — вялость и апатичность. Впереди — никаких маяков. Для таких жизнь превратилась в сплошную чеховскую «скучную историю». Стали во множестве плодиться чеховские герои — Ионычи и Чебутыкины [305] Ионыч — см. коммент. 228. Чебутыкин — персонаж пьесы А. П. Чехова «Три сестры» (1900), человек, разочаровавшийся в жизни, потерявший веру, духовно опустившийся.
, сомневающиеся даже в том, существуют они или только кажется, что существуют. В революцию без героев такие поверить не могли, а жить без этой веры с каждым годом становилось тяжелее. У мужика хотя бы надежда на царствие небесное и вечный покой, а у них и этого нет! Скучно, душно, тошно. Картишки, водочка, любовные приключения, скандальчики в клубе, и никаких мечтаний и надежд! Любимыми книгами в провинции сделались: у мужчин — «Санин» Арцыбашева, у женщин — «Ключи счастья» Вербицкой… [306] Романы «Санин» (1907) М. П. Арцыбашева и «Дух времени» (1907) и «Ключи счастья» (1909–1913) А. Н. Вербицкой, а также «Люди» (1910) А. П. Каменского, «Гнев Диониса» (1911) Е. А. Нагродской и др. стали ответом на увлечение русского общества философией Ницше и идеями феминизма. В своих произведениях авторы призывали к раскрепощению и следованию биологическим инстинктам, что, в свою очередь, по их мнению, должно было способствовать раскрытию артистических и интеллектуальных способностей человека.
Интервал:
Закладка:
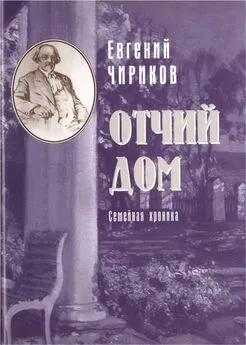

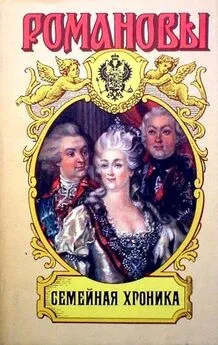
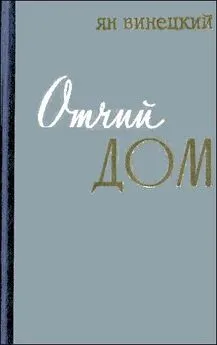
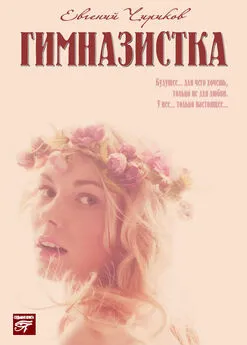
![Евгения Тур - Семейство Шалонских [Из семейной хроники]](/books/1062449/evgeniya-tur-semejstvo-shalonskih-iz-semejnoj-hroni.webp)