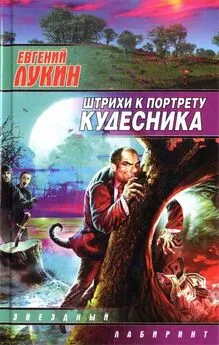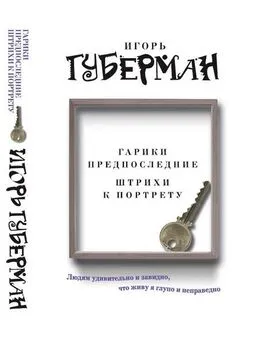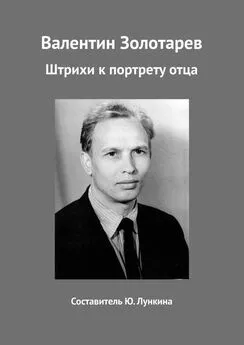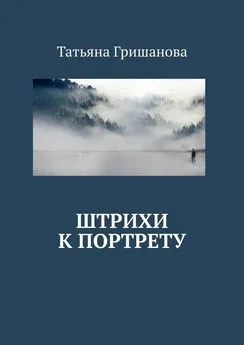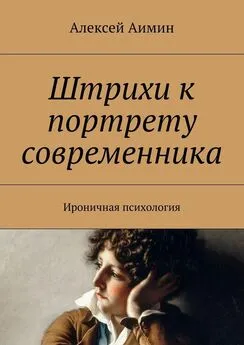Игорь Губерман - Штрихи к портрету
- Название:Штрихи к портрету
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Губерман - Штрихи к портрету краткое содержание
Штрихи к портрету - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сегодня на Кузнецком мосту группа людей окружила умирающего юношу Он сидел на окне магазина, закинув голову, с полузакрытыми закатывающимися глазами. Его не могли привести в сознание, пока какой-то студент не поднес к его губам кусок хлеба. Запах хлеба на минуту привел иссохшего человека в сознание, и жестом обезьяны его костлявая рука стремительно схватила хлеб. Этого жеста я никогда не смогу забыть. Но и жевать хлеб не было сил У изнемогшего человека, и он опять впал в предсмертное забытье.
Полумертвые изодранные женщины-старухи продают обломки шоколада…»
Так наступало решительное новое время, для Николая Бруни новое втройне: он возвращался к гражданской жизни, он собирался исполнить свой обет, он заводил семью.
День свадьбы устанавливался легко, ибо нашлись два стихотворения Бальмонта (никогда нигде не публиковавшиеся), посвященные новобрачным. (Анна много лет прожила в их семье, в доме у Бальмонтов устраивалась и свадьба.) Девятого сентября восемнадцатого года молодые венчались в старой арбатской церкви Николы-на-Песках (через три года в этой церкви священник Бруни будет служить панихиду по Блоку). Эта же дата стоит на обоих стихах, которые вечером того же дня Бальмонт читал на свадьбе. Первое стихотворение было обращено к жениху. Рубин выписал для книги его начало и конец.
Ты музыкант, поэт и летчик,
Ты трижды птица и цветок.
Но я старинных книг начетчик
и знаю много горьких строк…
…И если сказка дней обманна,
то необманна навсегда
в любви раскрывшаяся Анна,
улыбка, роза и звезда.
Стихи, прочитанные на свадьбе, всегда и заведомо прекрасны. Гости рукоплескали и восхищались. Через полчаса Бальмонт снова встал, держа в руке второй листок. Стихотворение посвящалось невесте Ане Бруни.
Ты красивая белая роза
под расплавленным солнечным светом,
беловейная сказка мороза,
ты должна быть любима поэтом.
Ты снежинка, допевшая снежность,
потому и дождалась ты Леля,
и, растаяв как вешняя нежность,
ты взыграла побегами хмеля.
Снова были возгласы восхищения, и будущее, о котором с тревогой думали гости сегодня днем, отступало и размывалось в розовом благодушии праздника, цветов, музыки, вина и молодости. Впереди у собравшихся было разное: эмиграция, нищета, лагерь, десятилетия житейских невзгод и тягот, страхов и унижения, потерь, просветов и сгущения тьмы. В сентябрьской ночи восемнадцатого года стучали по улицам сапоги патрулей, где-то неподалеку стреляли, до утра никто не уходил домой, очень и очень много пели — старинные романсы вперемежку с уличным фольклором и пошлостью ресторанной эстрады. Замечательно звучали они рядом.
Как собирался Бруни содержать свою семью? Литература прокормить не могла. Она еще не стала надежным продажным промыслом, выгодным ремеслом, отлаженной технологией. Это было впереди. А пока писатели служили — кто где — за недостаточный, полуголодный, но паек. В некоем эфемерном и бессмысленном присутствии (именовалось оно Театральным отделом Народного Комиссариата Просвещения) сидели и Бальмонт, и Ходасевич, и добрый десяток других. (Написав так, Рубин испугался своей наглости, ибо «другие» — это были Белый, Балтрушайтис, Вячеслав Иванов, Пастернак. Но устроить Бруни туда могли именно те двое, названные первыми.)
Ах, если бы он пошел туда служить! Тогда Рубин смело мог стащить из мемуаров Ходасевича эпизод, в который запросто можно было вставить Николая Бруни, ибо Ходасевич, назвав несколько фамилий (Белый, Гершензон, Пастернак, Чулков), написал далее — «и еще кто-то». Вспоминал он, как промозглой поздней осенью восемнадцатого года собралась группа писателей у Манежа, чтобы идти в Кремль к Луначарскому. Они шли жаловаться на голод и холод, на невозможность писать из-за необходимости просиживать штаны ради нищенского пайка в своем бессмысленном Театральном отделе, они еще надеялись на что-то, боясь признаться даже самим себе, что не очень понимают — на что. Ибо надеяться было уже поздно. Даже паек уже вот-вот собирался превратиться в пайку. Величественно и быстро разворачивалась одна из самых страшных трагедий: трагедия всеобщей сбывшейся мечты.
Но они пошли. И Рубин не удержался — вставил в эту группу поэта Николая Бруни. Уж очень был велик соблазн такой подтасовки.
В Троицких воротах Кремля часовой трогал каждого за плечо (пропуск был общий) и вслух пересчитывал: один, второй, третий. Шестнадцать лет оставалось Бруни до такого же пересчета в тюрьме.
Потом была комендатура (с тем же тщательным пересчетом), лестница (на поворотах маршей — часовые) и огромный белый коридор старинного служебного помещения. Луначарский принимал депутацию в кабинете своей квартиры в Кремле. Когда они расселись, Луначарский пристально и медленно обвел всех глазами, и Ходасевичу показалось, что нарком снова на всякий случай пересчитывает их.
Было у Рубина на совести одно смешное, но болезненное воспоминание о молодой жестокости давних лет Уже заканчивал он школу тогда (шел пятьдесят третий год), историю преподавал у них некий Наум Соломонович, изгнанный из какого-то научного института в самом начале борьбы с безродными космополитами. Если кто и подходил внешне (схожестью с газетными карикатурами) под эту бессмысленную кличку, то уж, конечно, их Наум Соломонович — ввиду крайней непривлекательности своей и крайне типичной внешности. С пышными остатками белых кудрей вокруг огромной плеши, толстогубый и с огромным носом (из которого так же, как из ушей, торчали жесткие завитки волос), с темнокарими навыкате глазами, полными вековой скорби изгнанников, нездорово рыхлый и не только бедно, но и неряшливо всегда одетый, с невероятным, пародийным акцентом. В классе к нему по-разному относились, даже скорей любили за восторженно-необъятное знание своего предмета, но никогда не упускали случая подшутить, тайком передразнить, воспользоваться его тихостью и попустительством. Однажды Наум Соломонович на урок не явился — пришел директор, попросил час истории пересидеть спокойно, объяснил, что их учителя вызвали получать затерявшийся фронтовой орден, нашедший его спустя восемь лет. Мельком директор сказал, что у Наума Соломоновича это третий или четвертый орден, а медалей не сосчитать, что он всю войну воевал с отчаянной храбростью в пехотной разведке. В тоне директора чувствовалась одновременно и любовь, и боязнь проявить ее чрезмерно, ибо в то время не ко всем имел право человек проявлять любовь, уважение, даже симпатию. Это решали за него, и нарушение регламента было чревато.
А на следующий день пришел Наум Соломонович. Тот же черный его обтерханный пиджак сиял по случаю множеством наградных колодок и свежим орденом. Очарование, однако, разрушилось при первых звуках его голоса, еще более акцентированного волнением и торжеством.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: