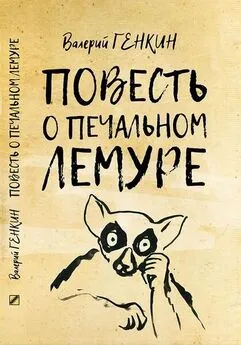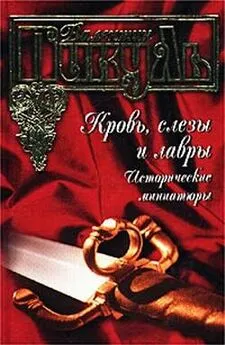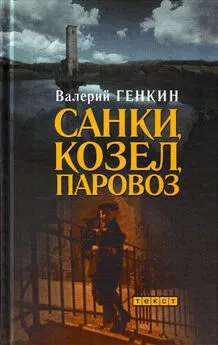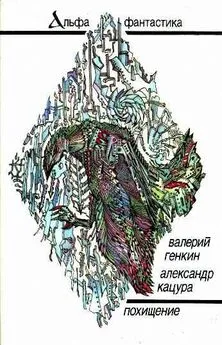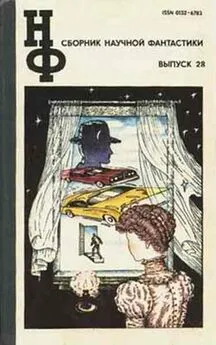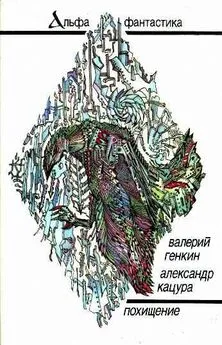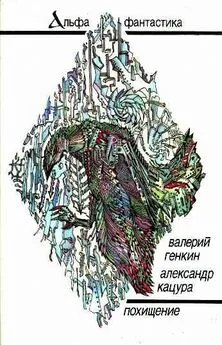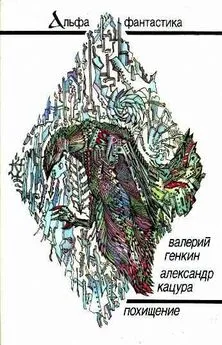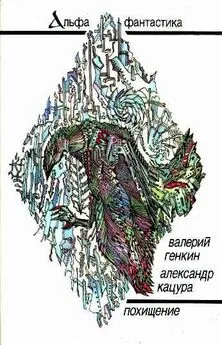Валерий Генкин - Повесть о печальном лемуре
- Название:Повесть о печальном лемуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1576-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Генкин - Повесть о печальном лемуре краткое содержание
Повесть о печальном лемуре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И припев там вроде был: «Хай беруть, хай везуть!» Я, правда, так и не нашел значения слова «папетры» — есть паперти, что-то вроде набора конвертов и почтовой бумаги, может, это и имелось в виду. Но театр власти закрыли: немецкий комендант приказал. Всего-то и приказал что закрыть «Зеленого попугая». Добренький был, лет через двадцать те же немцы в той же Одессе за такие куплеты… А тогда даже Гитлер еще не стал таким паршивцем и упырем, а вполне даже храбро воевал, под Ипром глотнул своего же немецкого газа… Ну а юный Коралли принялся гастролировать по всей Малороссии. Годы, согласно рекомендации Евгения Долматовского, летели, как птицы, мальчик взрослел-матерел, словно Вольга Святославович (или Микула Селянинович, надо бы проверить, нет, все же это был Вольга). Повзрослев-заматерев, он к куплетам добавил новые штучки-дрючки — стал мастером разговорного жанра, конферансье, юмористом, по-нашему, стендапером. Завоевав всю Одессу, он отправился в Москву, веселил публику в саду «Эрмитаж» и вот — познакомился с тогда, в конце двадцатых, начинающей Клавдией Шульженко. Парень был красивый, талантами сверкал, обаял девушку, женился и уехал с ней в Ленинград — выступать в мюзик-холле. Они с Клавой и в кино снимались: Владимир в роли кулака, а Клава — ткачихи в фильме Михаила Авербаха «Кто твой друг» (вместе с Черкасовым и Кмитом — ну да, тем Кмитом, который через год станет чапаевским Петькой и прославится), а потом слепили собственный джаз и с ним выступали на фронте до самого конца войны. Лет через десять они развелись, и Коралли продолжал выступать уже без Шульженко. Он прожил почти до девяноста, и похоронили его на Новодевичьем — там он и вернулся к жене.
Господи, о чем я? Приличные люди такую писанину запихивают в сноски и набирают самым мелким шрифтом. А тут… Ну куда понесло Виталия Иосифовича? И — откуда? Ах да, дядя Илья. Вот как они с дедом познакомились, я не помню. Знал, наверно, но забыл. Зато точно помню, что к каждому его визиту бабушка готовила фаршированную рыбу. «Геня, — говорил ей Жак, — такую рыбу готовила только моя мама, да будет благословенна ее память». Моих вполне ассимилированных бабушку Женю и дедушку Семена он всегда называл старыми, еще дореволюционными именами — Геня и Шимон, хотя сам охотно откликался на Илью, никаких Элиягу.
— М-да, живенько же ты помнишь сороковые годы, — заметил Миша. Он закрыл патефон, плавно перенес волшебный инструмент на полку стеллажа и накрыл бязевой тряпицей.
— На этот счет у меня есть теория, правда, эмпирический ее фундамент шаток — только собственная память, выборка, как говорится, не представительная. Представь себе свою середину жизни, ну, скажем, сорок лет. И в это место на шкале времени вдвинь что-то вроде зеркала. Тогда — это я, напоминаю, по своему опыту говорю — от сорока до пятидесяти ты лучше помнишь и чаще вспоминаешь то, что происходило с тобой и вокруг тебя между тридцатью и сорока. От пятидесяти до шестидесяти вспоминается возраст от двадцати до тридцати. От шестидесяти до семидесяти — соответственно то, что с тобой было от десяти до двадцати. Забавно, в каком-то американском боевике — «Мистер и миссис Смит» или что-то похожее — герой сказал очень незатейливо: «Просто в конце начинаешь думать о начале». Ну а сейчас, когда вот-вот грохнет восемьдесят — да-да, не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня , семидесятый, если мне не изменяет память, псалом, — я очень четко помню раннее детство, первые классы, тетрадки в косую линейку с розовыми промокашками, перышки с нажимом, столбики — их решали. Вам сколько столбиков задали?.. Это как с Прустом: тот унюхал в нежном возрасте запах какой-то ихней, французской, выпечки — пусть, к примеру, свежих бриошей или круассанов, и этих сладостно-грустных шевелений в памяти хватило Марселю на несколько довольно толстых книг. Думаю, и я помирать буду, вспоминая младенчество. М-да. А Клавдию Ивановну, кстати, как и дядю Илью Жака, я видел живьем. Но если с Ильей Семеновичем вкушал рыбу за одним столом, и не единожды, то знакомство с Шульженко было, как бы помягче сказать, — поверхностным. Она гостила на даче у своей приятельницы, жены модного адвоката. Я дружил с сыном хозяйки, и мы снимали у них комнату на лето. Дело было в разгар корейской войны, когда в СССР привозили много корейских детей. И вот как-то выходит роскошная Клавдия Ивановна в сад и видит меня — косенького, тощего и совершенно голого мальчонку лет семи: мама поставила меня в таз и обливала нагретой на солнце водой из ковшика. Увидела и кричит хозяйке:
— Ой, какой тут у вас славный корейчик!
— Положим, не корейчик, а еврейчик, — ответила хозяйка, — но славный, тихий, послушный мальчик.
Таким было это, прямо скажем, — шапочное, знакомство.
Виталий Иосифович хрустко потянулся и собрался было уходить. Но мешкал. Важное дело предстояло, и он колебался — не позвать ли на помощь Мишу. Ох, надо бы. Обещал он Елене Ивановне спилить березу, что стояла по ту сторону пиявочного пруда. Не то чтобы дрова подходили к концу — года на два еще хватит. Но Елена Ивановна всегда повторяла присловье своей матушки светлой памяти Веры Аркадьевны (лучшей тещи ВИ и представить не мог): запас в жопу не толкает. Березы могло бы хватить на целый сезон, а то и два. Так что березу, хочешь не хочешь, валить придется, тем более что еще вчера Елена им с Мишкой бросила такую фразу:
— После березы будет вам анковский пирог.
Тут напрашивается некая вставка. Или врезка. Короче — разъяснение. А попросту говоря —
Жил некогда на свете добрый доктор Николай Богданович Анке. Был он чуть моложе Пушкина, но явно старше Лермонтова. Умом и прилежанием добился Николай Богданович немалых успехов в лекарском ремесле и со временем стал деканом медицинского факультета Московского университета, а еще задолго до того, себя не жалея, усердствовал в борьбе с эпидемией холеры, что свирепствовала в Риге. А до чего яркие читал он лекции по фармакологии, токсикологии, общей терапии — студенты на них валом валили, а ведь читал он их, как все догадались, на латыни, а мог бы и по-немецки, и по-русски. Правда, среди тогдашней медицинской профессуры такое встречалось не так уж редко. Многие его ученые труды изучались и с успехом применялись в лечебной практике российскими медиками, а в особенности два: «О различии между ломотной лихорадкой и острым ревматизмом, со вступительным обзором ломоты и ревматизмов вообще» и «Замечания об эпидемической дифтеритической жабе». Но отнюдь не воззрениями на ломотную лихорадку и дифтеритическую жабу нам интересен этот достойнейший ученый муж. Ни Боже мой. Дело совсем в другом. При всей своей скромности, доходившей до застенчивости, при всей своей учености, Николай Богданович носил в себе слабость, строгими клириками определяемую как один из смертных грехов. Ну не то чтобы это был уж совсем грех грехович чревоугодия, однако ж надо признать, что падок был наш доктор до хорошей еды, с пагубным сладострастием выделяя из многообразного меню кондитерский его отдел. И вот — перехожу к сути: в семье профессора был в заводе пирог, доставлявший ему ну прям-таки особенную радость. Не могу сказать, что пирог этот изобрел сам Николай Богданович, да только в историю — кулинарную, литературную да и вообще культурную историю России — он вошел именно как анковский пирог. Сочинила же его, по-видимому, жена профессора Елизавета Ивановна Анке (в девичестве Джаксон, хотя понятия не имею, зачем это упоминаю). Путь к всероссийской (а то и всемирной) славе начался у пирога с того момента, как Николай Богданович поделился его рецептом с Любовью Александровной Берс, своей дальней родственницей, которую время от времени посещал и даже пользовал в качестве семейного доктора. А Любовь Александровна была (если вы еще не догадались по фамилии) матушкой Софьи Андреевны, в девичестве Берс, а в замужестве Толстой, супруге Льва Николаевича. Так через тещу Толстой тоже приобщился к почитателям этого пирога. Он же и назвал его анковским, посвятив ему такие строки:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: