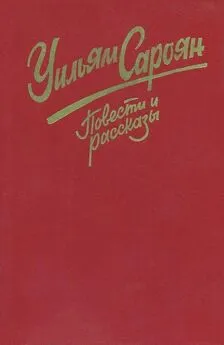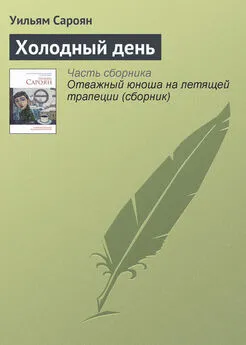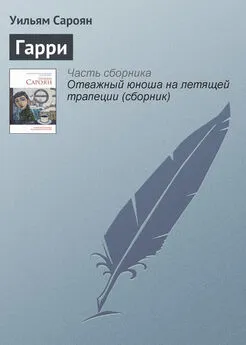Уильям Сароян - Повести и рассказы
- Название:Повести и рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советакан грох
- Год:1986
- Город:Ереван
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Сароян - Повести и рассказы краткое содержание
С 204
Предисловие Ар. ГРИГОРЯНА
Сароян У.
Повести и рассказы / Пер. с англ. Н. Гончар;
предисл. Ар. Григоряна. — Ер.: Совет. грох, 1986. — 336 с.
В книге представлены две повести Уильяма Сарояна, созданные в 1950-е годы и относящиеся к числу лучших произведений писателя, а также ряд рассказов, роднящихся с этими повестями по своим мотивам и образам. Повести и рассказы Сарояна вовлекают читателя в атмосферу глубокой человечности, покоряют тонким пониманием духовного мира людей, будь то взрослые или дети, психологической правдой образов, богатством юмора и лирической теплотой.
© The Laughing Matter. London, 1955; Papa You’re Crazy. London, 1958; The Assyrian and Other Stories. N. Y., 1949; The Whole Voyald and Other Stories. London, 1957; Not Dying. N. Y., 1963.
© Издательство «Советакан грох», перевод с английского, предисловие, оформление, 1986.
Повести и рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Идея книги не продвигалась. Я не хотел на нее напирать. Я уверен был, что это идея хорошая, но замечал, что все вокруг, кого я знаю, все, кому я только ни заикнусь о ней, заинтересованы совсем другими вещами. Нет так нет, неважно, я мог подождать.
Шли годы, и я стал все чаще и чаще раздумывать о книге, о путях и средствах ее создания и говорить о ней то с тем, то с другим, с кем мне случалось завязывать разговоры. Нам нужна, говорил я, книга про нас, про нас нынешних, не про вчерашних и не про завтрашних. Нам нужна своя новая библия, книга для каждого дома, для каждой семьи. Мы должны собрать и сказать в ней все, что сегодня знаем, пускай даже знаем мы очень немногое. Мы должны подобрать для нее писателей, и сделать это надо осмотрительно, с толком…
Шли годы, и я начал писать о книге издателям. Я писал, что речь идет не о моей книге, а о книге, написанной всеми для всех, о книге, в которой участвует каждый — множество мужчин, женщин, детей. Тут главная работа в том, чтобы подобрать пишущих, а когда они напишут каждый свое, выбрать самое подходящее и свести воедино. Книга, конечно, выйдет большая, но это будет одна книга, не две, не десять, не сто, не тысяча, не двадцать две тысячи книг в год. Издатели отвечали, что осуществление такого замысла не представляется возможным в настоящее время, ввиду повышенных расходов на производство, или ввиду затруднительных рабочих условий, или по каким-то другим причинам.
Евангелие от… — от кого, назовите сами, — оно написано и имеется в книге. Интересует вас евангелие от старика, от самого, может быть, старого человека на свете? Вот оно в книге, читайте: «После того как я прожил сто тридцать лет, вот что я знаю и вот что скажу». Он скажет, а вы из этого возьмите что подойдет вам. А может, вас интересует евангелие от ученого, или же от богача, от сумасшедшего, от преступника, или же от рабочего-сталелитейщика, или от фермера-хлебороба? — пожалуйста, все это есть в книге, и все написано прямо, правдиво и просто. Да, именно так, потому что, ну, скажем, ста фермерам предлагается изложить свое евангелие в не более чем пяти сотнях слов, а потом одно только отбирается, чтобы войти в книгу. Если этот способ покажется вам негодным, вспомните, сколько людей жило на свете во времена создания библии, и разве каждым из них было прожито и познано, было испытано и сказано именно то, что оказалось написанным в этой книге?
Все книги на свете составляют, конечно, единую книгу, но мыслимо ли собрать их вместе и мыслимо ли их прочесть, если даже читать ты начнешь лет с семи и не перестанешь до смерти своей лет через девяносто?
Временами мне делается дурно от столпотворения книг. Так было, например, вчера вечером — шею словно сдавило, свело от груза бессмыслицы и сожалений, печали, ярости и любви. Всякий раз, когда с шеей у меня происходит такое, я знаю — причиной тому книги. Я знаю — опять на меня навалились сомнения, и назавтра мне будет трудно писать, трудно добавлять что-то еще ко всему остальному, уже написанному. И неважно, что шеи у меня, в сущности, нет: похоже, что голова моя уселась прямо на плечи, и случилось это лет двадцать тому назад, когда для меня сделалось обычным занятием с утра садиться за стол и писать, похоже, с тех пор и не стало у меня шеи, ведь в юности, помню, она у меня была.
Когда я пишу, мои дети все интересуются, спрашивают, что это ты такое пишешь, и мне приходится отвечать: «Не знаю, но боюсь, что совсем не то». Они смеются, но очень скоро я чувствую, что веселье их сменяется беспокойством — не столько насчет меня и моей книги, сколько насчет того, как обстоит вообще с жизнью, искусством, истиной и неистиной, и тогда я говорю: «Все в порядке, не беспокойтесь. Всякому писателю, когда он пишет, присуще думать, что получается не то и не так. И все равно он продолжает, ему это не в новинку, и после того как он кончит свою работу, после того как он выдержит бой, им же самим затеянный, начатый, бой, в котором трижды за каждый раунд его чуть не сшибало так, что уже не подняться, а он все-таки не скис и до конца продержался, после, когда он покинет ринг, хоть и полумертвый, а все же счастливый, и забудет про бой, то есть про написавшееся, а потом возвратится к нему снова, тогда окажется, что хоть и вещь по-прежнему не та, какой бы хотелось, какой следовало ей быть, но какая ни на есть, а все же она имеется, хоть что-то малое да налицо».
Вчера вечером мой сын сказал:
— Ей-богу, мне хочется прочитать эту книгу, как только ты ее закончишь.
— Видишь ли, — сказал я, — наверно, будет лучше, если сперва я сам ее прочитаю, после того как она полежит сколько-то времени, — ведь книгу можно считать законченной только тогда, когда сам писатель прочел ее спустя время, сам взвесил все и проверил и, как правило, что-то переделал, перекроил, и многое из нее выкинул и кое-что внес. То, что написалось по первому разу, не более чем материал, в котором надо еще разобраться, придать ему форму, уравновесить. Тебе найдется что почитать и помимо новой моей книги, тем более что это не повесть и не роман, а нечто совсем другое.
— Пускай другое, но что?
— Да просто произведение свободной формы. Я бы сказал, что это этюды, это попытка разобраться, что может выйти у писателя, когда установка его такая: совместить противоположности — свободу и форму. Их оппозиция, видишь ли, давно уж занимает меня, и я хотел бы выяснить, насколько она разрешима или насколько, во всяком случае, удастся мне самому свести и сбалансировать их в новом произведении. Так вот, в частности, в эту вещь, из которой еще неизвестно что образуется, я вложил столько свободы, сколько во мне имеется, в то же время и в равной мере стараясь дать ей и форму. Я терплю неудачу, но прежде чем я решу, велика ли моя неудача, или решу, что не стоит придавать ей значение, мне нужно отложить рукопись в сторону, забыть про нее, нужно оправиться после боя и потом, когда я вполне оправлюсь, вернуться к ней снова и еще поработать и тогда уж определить, что же такое у меня образовалось в итоге — во-первых, для меня самого, а во-вторых, для тебя, то есть для каждого, кто заинтересуется… Когда ты был маленький, мне, как отцу, требовалось обдумать дважды, что и о чем писать, потому что я не так еще хорошо тебя знал и опасался, как бы зря не смутить твою душу, теперь же, когда ты вырос и я знаю тебя лучше и уверен, что тебя не озадачит и не смутит любая моя или чья-то попытка, предпринятая ради достижения смысла, я чувствую себя свободным и верю: что бы я ни надумал и что бы ни написал, ты ничего не поставишь в вину мне. Например, в этой книге кто-то, может статься, усмотрит кое в чем дурной вкус, но это вовсе не значит, что так оно и есть. Видишь ли, тем, кто мало что испытал, легко смотреть с презрением на тех, кто испытал многое, и я не о себе сейчас говорю, хотя, пожалуй, и я испытал немало, если иметь в виду вещи обычного рода. Тот, кто весь век содержит душу свою в безопасности, склонен осуждать того, кто распорядился собою иначе, того, кто не смог или не пожелал хранить душу свою где-нибудь в таком же безопасном углу. Пройдет годика два, и ты поймешь, о чем я. А пока я делаю свое дело, пишу вот эту книгу, и если она не похожа на все написанное мною прежде, если она несколько или совершенно иная, все равно, я считаю, что все в порядке. В искусстве приняты теории завершенного целого, и я вовсе не против таких теорий, но ежели человек ощущает способность или потребность расширить сферу своего проявления, надеясь, что в итоге он сможет свести ее в целое, то, мне кажется, пусть он расширит ее. Лучшие писатели оставались в рамках обжитого, но я бы предпочел, чтобы они их нарушили. Вот, например, Чарльз Диккенс, которого ты читал. Его создания среди лучшего, что когда-либо было написано. Сколько воистину прекрасного он сочинил, какие дал изображения человеческой жизни, сколько замечательного о ней рассказал! И в каком же великолепном, восхитительном стиле, с каким дивным смешением глубокой, почти безутешной печали и безудержного, подчас до упаду, веселья и смеха! И все же есть нечто, чего мне недостает у Диккенса, — того, что происходило в его собственной жизни с тех пор, как ему исполнилось, скажем, двадцать, того, что ему пришлось испытать самому: ну, например, пусть это будет его женитьба, обернувшаяся вскоре недоразумением, его оказавшийся безрадостным брак, или его отношения с другими женщинами, или его отношения с собственными детьми, проступающие за отношениями с маленькими героями рассказанных им историй, такими, как Пип в «Больших ожиданиях». Или же возьмем Антона Чехова, другого писателя, сочетавшего в отточенном стиле глубокую печаль и великолепный юмор. Всю жизнь он болел, и хотя сам был врачом, а сразиться и справиться со своей болезнью не мог. Не скажу, что он питал отвращение к бытию человеческому. Без этого не обошлось, наверное, как у всех у нас не обходится, но в то же время было у него и пристрастие к этой жизни, ко всему, что повседневно ее наполняет, только, может быть, меньшее, а скорее всего иное, нежели то, какое у большинства из нас. Он ничего не делал для того, чтоб отсрочить смерть, отсрочить неизбежное, он просто писал свои чудесные рассказы и пьесы, он совершил поездку на Сахалин, чтобы увидеть, как там живут люди, и ездил потом раза два на юг Франции. Так вот, мне бы хотелось, чтобы Антон Чехов нашел возможным или желательным рассказать нам немножко больше про самого себя, про бой, который вел и выдерживал он, потому что человек он был необыкновенный, на редкость, и хорошо бы нам сейчас знать побольше о том, каким он был в действительности, как переживал свою жизнь, как справлялся с непривлекательной реальностью каждого ее дня и каждого ее года…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: