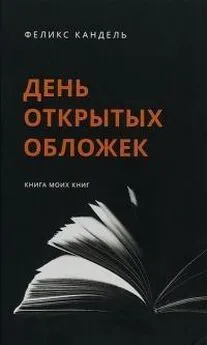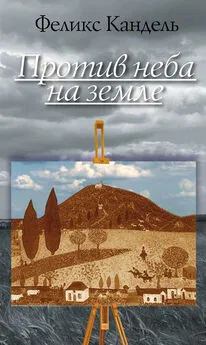Феликс Кандель - День открытых обложек
- Название:День открытых обложек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Б.С.Г. - ПРЕСС
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93381-378-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Феликс Кандель - День открытых обложек краткое содержание
Книга эта – подобна памяти, в которой накоплены вразнобой наблюдения и ощущения, привязанности и отторжения, пережитое и содеянное.
Старание мое – рассказывать подлинные истории, которые кому-то покажутся вымышленными. Вымысел не отделить от реальности. Вымысел – украшение ее, а то и наоборот. Не провести грань между ними.
Загустеть бы, загустеть! Мыслью, чувством, намерением.
И не ищите последовательности в этом повествовании. Такое и с нами не часто бывает, разве что день с ночью сменяются неукоснительно, приобретения с потерями. Но жизнь не перестает быть жизнью, пока не оборвется, тоже вне видимой последовательности.
Доживёте до сопоставимых лет – сами поймете.
День открытых обложек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рычат за леском самосвалы, рокочут в глубоком небе самолеты, дети перекликаются в отдалении, а тут зыбкий покой, нестойкая тишина, что взрывается порой медью оркестра, речью по бумажке, стонами женскими.
«Спи спокойно, наш милый. Суждено так, видно».
Зимой завалы белизны нетронутой, портреты по горло в пуху, взгляд девчоночий с глазами потерявшегося ребенка, тропка, пробитая затейливо, а на конце ее камень, прозрачной пленкой укутанный, цветок, морозом обожженный, чистота и уют. И вернее всего – боль стариковская, сокрушение родительское топчут к детям дорожку частыми своими посещениями.
«Дочка моя, горе мое, тоска моя...»
Летом на кладбище сельском, полевом буйство трав покосных по пояс, пересвист птичий, ветры неумолчные; всё опахано до крайних погребений, рожь наливается тяжелой колосковой спелостью, цветет клевер, забредают порой стреноженные кони да проносится напрямки малышня деревенская.
В праздники, в дни уставные, приходя родичи, усаживаются по-семейному, пьют и едят, оставляют на прощание стакан граненый, на сук насаженный, – посуду для поминаний, водочку льют на бугорок: видно, уважал ее покойник.
В будни, в дни тихие, копошится старушка, домовито и беспечально, наводит небогатый уют, и палый лист с дерева, попавший сюда ненароком, перелетит на могилу, никем не прибранную. А то соберется компания мужская, поставит на плите бутылку, разложит нехитрую закуску, и покойник для них не покойник – сторонний, безденежный наблюдатель, который не рассчитывает на долю свою сорокаградусную.
«Не забудем тебя, Петя!»
А в городе, в шумном безразличии, притулилось не к месту кладбище давнее, сдавленное с боков домами-исполинами, где не хоронят давно, только ждут с нетерпением, когда живые отступятся от мертвецов своих, чтобы застроить территорию по готовому плану. Сколько им ждать придется? Вечная память, она на какой срок? Ветшают пока что надгробия, кресты деревянные трухой изошли, и тут же, посреди всеобщего умирания, ограда выше головы, плиты ухоженные, скамейка покрашенная, ящик с инвентарем под амбарным замком, маслом смазанным от сырости, и глядят хозяева с фотографий, как из оконцев, глазами насупленными на прохожего человека. Эту породу не переждешь. От этих свои не отступятся. Таких – только выселять со скандалом...
«Мамочке нашей! От любящих Шуры, Дуси, Маши, Мити, Пети, Томы, Сережи».
А вдали от проживания, в дальних краях, распахнулась на версты новостройка, полем продутым до горизонта, но по-прежнему тесное, скученное, бараками перенаселенными на великой территории. Надгробия похожие, ограды одинаковые – не отыскать своих, и елочка новогодняя со стеклянными шариками, в изголовье воткнутая: звон-перезвон от шарика к шарику.
«Спасибо, что ты была».
Глядят с фотографий глазами ясными, давно сгинувшими, улыбаются открыто, хмурятся неподступно, важничают перед любопытствующим, который бродит меж рядов. Позавидует одному за долгие его годы, пожалеет другого, и примерит свои лета, утешится, огорчится, пойдет весело прочь, отмахивая рукой, или побредет задумчиво, заново ощущая непослушное тело свое.
«Спи спокойно, мой друг! Ты уже дома, а мы в гостях».
Приехали к сыну после недельной разлуки…
…в детский сад под Москвой.
Спросили:
– Ты нас вспоминал?
Ответил строго:
– Я вас не вспоминал. Я вас помнил.
Прежде мы жили на Шаболовке и по утрам выходили из подъезда, пересекали трамвайные пути, поднимались по переулку, шагали по аллее вдоль монастырской стены.
Раннее утро.
Никого на пути.
Мы, да голуби с воробьями, да редкий пешеход навстречу.
– Когда мне будет десять лет, сколько тебе?
– Тридцать семь…
Мы проходили через боковые ворота Донского монастыря, и город исчезал куда-то. С людьми, машинами, гулом неумолчным.
– Здравствуйте, – говорила женщина и крестилась на купола.
– Здравствуйте, – отвечали мы.
В монастыре был похоронен Чаадаев, хотел разыскать могилу без посторонней помощи, и нашел, наконец, возле Малого собора – цветок на плите.
«Петр Яковлевич Чаадаев. Кончил жизнь 1856 года 14 апреля».
«Просвещенный ум, художественное чутье, благородное сердце…», – за публикацию «Философических писем», порицание «мрачного и тусклого» бытия власти распорядились считать автора сумасшедшим. Письмо первое: «Сударыня. Прямодушие и искренность именно те черты, которые я в вас более всего люблю и ценю…»
Возле Малого собора кучно встали надгробные изваяния героев войны с Наполеоном, свезенные отовсюду. Среди них генерал-лейтенант донских казачьих войск Василий Дмитриевич Иловайский 12-ый, который со своим полком первым вошел в Москву после бегства французов, с боями дошел до Парижа.
Сбитые пальцы, сколы на каждом изваянии, – «в честь 150-летней победы» повреждения не устранили, лишь вывели на пьедесталах золотыми буквами: «От советского правительства».
А в подклети Большого собора я усмотрел замшелый камень с углублением для поминальной свечи: «Сия свеча должна гореть вечно, на что определена сумма…»
Знатоки давно расписали, где похоронена выдающаяся личность, где не очень.
Мертвых легко разложить по полочкам.
Рассказ завершен?
Рассказ продолжается.
К лету в монастыре цвел жасмин, летала крапчатая бабочка, дремала на приступочке угревшаяся бабуля. Зимой дым поднимался из труб на фоне куполов, снег тихо скрипел под ногами, в одной из башен, под самым верхом светилось окошко: там кто-то жил, и мы ему завидовали.
Завидовал я, завидовал мой сын, которому не хотелось идти в детский сад.
– Когда мне будет тридцать лет, сколько тебе?
– Пятьдесят семь…
Мы всё облазили в монастыре, всё осмотрели.
Горельефы с уничтоженного храма Христа Спасителя. Декоративные убранства разрушенных московских церквей Николы в Столпах, Успения на Покровке, Иверской часовни и Сухаревой башни. Стояла там и колесница славы с разобранной Триумфальной арки в честь победы над французами, на которую хотелось залезть.
Хотелось мне, хотелось моему сыну.
Среди прочих надгробий затерялся камень на могиле Салтычихи, «виновной без снисхождения» за пытки и убийства дворовых людей.
Салтычиха – она же Салтыкова Дарья Николаевна, помещица.
В 1768 году – по указу Екатерины II – ее присудили к лишению дворянского звания и отбыванию «поносительного зрелища»: час простоять прилюдно на эшафоте, прикованной к столбу, с надписью над головой «мучительница и душегубица». И отправили в Ивановский женский монастырь Москвы, на заключение в оковах, «чтобы она ниоткуда света не имела».
В монастыре вырыли яму под зданием, где она провела первые одиннадцать лет, в полной темноте, лишь за едой ей зажигали огарок свечи. Умерла в тюрьме через три десятка лет, похоронена в Донском монастыре. Камень растрескался, местами обвалился, на нем пометили мелом – «Салтычиха».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: