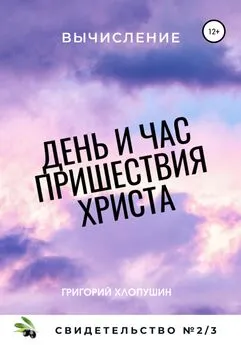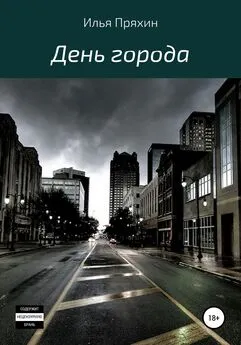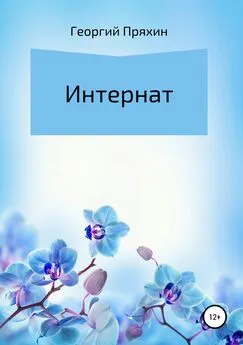Георгий Пряхин - День и час
- Название:День и час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00616-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Пряхин - День и час краткое содержание
День и час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тень помещалась на порожках, легкая, светлая, почти прозрачная. Он молча опустился рядом, мать взяла его голову, уложила к себе на колени и стала легонько перебирать его отросшие, запущенные волосы, искать в них. А искать конечно же было чего: слишком долго они прожили в доме сами, без ее заботливого догляда. Всходившее солнце сдержанно грело, нежило их. А мать баюкала его кудлатую, большую, тяжелую — может, тоже от подростковой худобы и легкости всего остального в нем — голову. Сергей и по сей день явственно, отчетливо, счастливо (хотя и с таким глубоким, болезненным, болящим душевным эхом) помнит, чувствует эти большие жесткие пальцы, с которых даже больница, даже болезнь не свели сухие окаменелости мозолей. Как ласковы, как чутки были эти функциональные, работе подчиненные руки! Мать молчала: что б о л ь ш е е, более существенное, более ласковое могла она высказать словами. С ним разговаривали ее руки. С ним разговаривала, прощалась с ним ее душа.
А как Маша льнет к тещиным рукам! Купается в них, как в полноводной реке с теплым и сильным течением, с пологими берегами, на которых ждет-дожидается тебя то ягода-ежевичка, то лещинный орешек, то еще какая нечаянная радость. Посмотрит Сергей, как самозабвенно они забавляются друг с дружкой, послушает, как заливисто, колокольчиком хохочет, барахтаясь в тещиных руках, его дочка, и даже ревность шевельнется в нем. Сыновей — а теща помогала им с женой вынянчить и первых двух — не ревновал, а эту вертишейку, случается, ревнует.
Что бы он ни делал, чем бы ни был занят дома, а краешком глаза ревностно следит за Машей, за ее стрекозьими маршрутами…
Все последовавшее потом, под утро, Сергей помнит так, словно это случилось вчера. Закроет глаза, и перед ним опять и опять проходит это.
Было, наверно, часов пять. Дом спал. Как обычно в дни разладов с женой, Сергей лег не в спальне, а в общей комнате, которую в семье чопорно зовут «залой». Здесь стоит диван из гарнитура «Клеопатра», купленный лет десять назад, когда они только переехали в Москву и получили здесь первую свою квартиру. Денег на весь гарнитур не хватило, а жене очень уж хотелось «купить мебель». Так были куплены диван и два кресла к нему. За эти годы и диван и кресла вытерлись. Пребывая в нежном возрасте, каждый из новоявленных Гусевых торопился оставить в них свою отметину, знак своего пришествия в этот мир, застолбить территорию, не единожды справить на ней как минимум малую нужду, отчего «Клеопатра» порыжела и выглядит сейчас простушка простушкой. Никаких демонических поползновений, никакой царственности. Вышла в тираж: жена уже поговаривает, что все вокруг «меняют мебель», на что Сергей предпочитает помалкивать. Сергея такая Клеопатра — такая больше всего! — устраивает. Без цирлих-манирлих. Покладистая: никто тебя не гонит, не шпыняет, даже если ты взобрался в кресло с ногами. И спится, и думается ему на диване хорошо. Не по-стариковски — по-мальчишески хорошо. Может, потому жена и ревнует его потихоньку к «Клеопатре», и подумывает ее сбыть…
Дом спал. Но под утро сквозь сон Сергей даже не расслышал, а почувствовал странный, тревожный шум. Как будто кто-то двигался от «малышовки», тяжело, грузно, слепо оступаясь и хватаясь за стены в узеньком коридорчике. И сдавленно мычал.
Какая глубокая, неизъяснимая тревога исходила от этого слепого движения и шла волнами, предваряя его, проникая сквозь двери, стены и даже сквозь самый сон!
Беда!
Как ужаленный этим ощущением беды, вскочил Сергей с дивана, закружился волчком. Отыскать штаны, попасть ногой в штанину… Дверь открылась, и в свете фонаря, торчавшего за окном, Сергей увидел тещу. Она стояла в дверном проеме, тяжело опершись левой рукой о косяк. Правая как-то странно вывернута, повисла плетью. Теща опиралась о косяк не только левой рукой, но и плечом, привалилась к нему и вся подалась вперед, а правая рука висела отвесно — ладонь вывернута тыльной стороной, — как беспомощная, безжизненная, вывороченная ласта.
Седые, обычно увязанные в аккуратный пучок и покрытые косынкой волосы растрепались, повисли пегими космами. Левый глаз широко раскрыт — беда и в нем, в нем в первую очередь свила свое воронье гнездо. Правый наполовину задернут веком, так что лишь полоска темного, черного, горячечного света выбивается снизу. Рот перекошен, силится что-то вымолвить, а получается только одно:
— А-а-а-а-а…
Как тогда, в детстве, над степью.
И боль, и страх — и в первую голову, пожалуй, страх, испуг, изумление, потрясшее человека до самого основания, — и мольба о помощи… Все было в этом крике. Она вся была — крик, застрявший в двери, как в горле. Почему выбрала именно его дверь? Пошла не в спальню, к дочери, куда было ближе, а направилась сюда, в «залу»? Больше надеялась на его помощь? Жалеючи дочку, хотела первым известить его? Крик ее был таким сдавленным, словно она все-таки не хотела поднимать липшего шума: авось еще обойдется. И дочка, передоверившая дом матери, ее не расслышала.
А может, она потому и явилась к нему, что знала, кто виновник ее беды? И встала над ним, как немой, с этими характерными для н е м ы х мучительными, сдавленными звуками — укор. Здоровая, боялась даже намеком, взглядом обидеть, задеть его. Теперь, лишившаяся речи, встала над ним, жалко прыгавшим на одной ноге, пытаясь попасть другой в штанину, всей глыбой, скопищем гнева, горечи и укоризны, обнаженных в своей силе и прямодушии. Как судия.
Как там в «Шинели»? «…то, наконец, даже сквернохульничал, произнеся самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство»…»
Сколько же лет это копилось?
7
Он и сейчас, в самолете, когда они наконец набрали высоту и теща постепенно успокоилась, замерла под простынями, которыми тщательно укутана, спеленута, опять и опять вспоминал именно этот глухой предутренний осенний час. Стоило только прикрыть глаза и на миг расслабиться. А ведь прошло сколько: ноябрь… декабрь… январь… февраль… март… апрель… май… июнь… прошло без малого восемь месяцев. И чего он только за эти восемь месяцев не видел! У него вообще такое впечатление, что все это время не смыкал глаз.
Он дежурил у тещи по ночам. Днем — жена, а ночью — он. Теперь они с женой сторожили ночью каждый звук. Каждый стон больной. Все поменялось.
А стоны были разные. Было тонкое, почти детское, но непрерывное, ничем не остановимое, ни лекарствами, ни уговорами, поскуливание, на которое и их дети вдруг начинали отзываться среди ночи высокими, смятенными, сонными голосами. Чувствовали родственную, страждущую, обратившуюся в детство душу и отвечали ей. Было громкое, в голос, в крик, рыдание. Блочные городские дома не приспособлены к такому открытому, нутряному, полногласному проявлению боли, сами бог знает из чего слепленные, они и человека, заключенного в них, толкают к эрзац-чувствованиям, делая его вечным рабом «тона», приличий и т. д. Рабом, даже когда так приспичит, проймет, что только в крике, в вопле, истошном, утробном, и можно хоть на мгновение избыть душевную или телесную муку. В такие минуты — да что минуты, часы! — они с женой болезненно прислушивались и к тому, что творилось за чужими стенами. Так и ждали стука или телефонного звонка: мол, что там у вас за безобразие, уймите же, наконец! Но ничего, никто ни разу не стукнул и не позвонил, хотя слышали их, конечно, все шестнадцать этажей… Дом, где свила воронье гнездо беда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



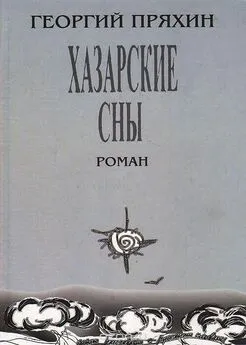
![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/1099702/georgij-pryahin-internat-povest.webp)