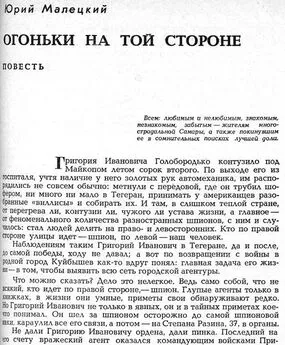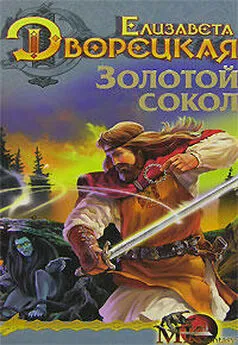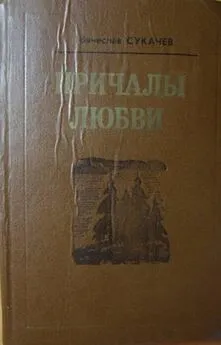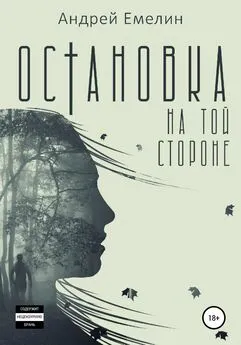Юрий Малецкий - Огоньки на той стороне
- Название:Огоньки на той стороне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1990
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Малецкий - Огоньки на той стороне краткое содержание
В журнале „Континент“, под псевдонимом Юрий Лапидус, напечатал повесть „На очереди“ (1986 г.) и рассказ „Ночь без происшествий“ (1990 г.). В Советском Союзе публикуется впервые.»
[Повесть опубликована в журнале «Знамя», 1990, № 12.]
Огоньки на той стороне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Надоело это Григорию Ивановичу под самую завязку. Выше крыши. Сколько можно под топором ходить? А выгнать — это он разучился. Сам не заметил, как добрый стал. Не может разогнать, и все.
Тяжелый случай; как говорится, бывает хуже, но реже. По счастью несчастье помогло. Сделалась у него от разных напитков язва двенадцатиперстной кишки. На «Спотыкаче»-то он и споткнулся. Последний это был в его жизни «Спотыкач». Шутки шутками, но опять — больница. Закрылось предприятие само, раньше, чем его закрыли, слава Богу. И уж как вышел Шнобель снова на родную землю, как ступил на улицу Самарскую, открывать клуб не стал. Все, раздача кончилась.
В марте пятьдесят третьего были плач и паника; ждали войны, голода; старухи несли о пришествии зверя, конце света, и Берту Моисеевну выкинули из трамвая прямо на ходу. Ваши, кричат, нашего отца отравили, а все вы, известно, в кровном родстве. И — шварк. Бойкая была тетенька Берта Моисеевна, на всякую жизненную трудность отвечала ихней поговоркой: «Гринг из ин бот писсэн унд тринкен тэй зиссен», сиречь: легко только в бане писать да пить сладкий чай. За словом в карман не лезла, а вот упала посреди улицы, бок отшибла, ногу подвернула, ртом воздух ловит. Полегчало — она в голос, дескать, жить не будет. Несознательная это все-таки публика, хотя, говорят, многие из них революцию начинали. Вроде даже сам Свердлов; да и сейчас — Каганович. В самой Москве метрополитен построил. Ну, башковитых у них хватает, это ежу известно; а не хватает у них массового сознания. Тут у всего народа горе, а они все — со своим личным национальным вопросом. В горе человек и не то тебе брякнет; а тут — вредительство. Злодеяние в мировом масштабе! Что после этого человеку думать о евреях? Хотя Берта, конечно, — ни ухом, ни рылом, но и ей надо понимать: вина на всех одна.
И только Григорий Иванович в пятьдесят третьем не плакал. Все понимал, а вот переживать не очень получалось. То ли у него гражданское чувство отключилось начисто, то ли язва проклятая мешала. Но так или иначе, а замкнулся он весь на себе. Другие заботы как-то потеряли вкусовую ощутимость. Не получалось чувствовать умершего вождя, как прежде — живого. Да и войны бояться — это нужно здоровое воображение иметь. А голода — здоровый аппетит. У Голобородько же воображение было с загибом, а по части аппетита жил он по выходе из больницы в основном на овсянке трех сортов — жидком толокне, овсяных хлопьях «Геркулес» и просто овсяной каше под названием «каша и-а». Плюс много воды и мало соли. И аппетит у Григория Ивановича стал такой незначительный, что спокойно мог он перейти с овса хоть и на сено, в случае очередного военного положения.
Так что он не плакал. Тем более, у него кое-что радикально переменилось в личном плане. Появилась у него женщина, Надя, Надежда Петровна. Не кто-нибудь, продавщица центрального гастронома. На углу главных улиц, Куйбышевской и Ленинградской. В рыбном отделе. Притом видная женщина, тридцати трех лет, серые глаза, два золотых фикса в нижнем ряду. Зимой ходила в черной котиковой шубке. Волосы красила в каштановый цвет, прическу делала типа гребня волны надо лбом, а по бокам локоны. Загляденье, не женщина.
Григорий Иванович сам не мог понять, как это такая женщина польстилась на какого-то Шнобеля. Но факт: сосватали его к ней ремонтировать домик. В центре, на Чапаевской. Частичный, понятно, ремонт: подбить-подклеить, проводка… Она ему пузырь, как положено, на кухне, он отказывается. Ну, заинтересовалась: оригинально, мастеровой, а непьющий. Усы, беретка, все такое. Усы-то она видывала, я думаю, и прежде, но — разговорились. Конечно, он ей о справке поначалу стеснялся, а так — о жизни, о душе. О реке Волге и огоньках на той стороне. Надежда слушает и осязаемо теплеет, словно бы вспенивается. Понятно, все же полегоньку-потихоньку, будто бы одна стесняючись, а выкушала чуть что не пузырь. Оно хоть и из хрустальной рюмки, хоть и под селедочку зал ом (подпол у нее, скажите, а в нем — ого-го!), однако все же сорок градусов есть сорок градусов, пузырь есть пузырь, и его ни одной женщине бесследно не принять.
Стали посуду вместе мыть, а у нее ручки полные, под белой кожей бежит по многим сосудам красная кровь, а сама эта кожа, чем больше он говорит, тем сильнее почему-то гусиными пупырышками покрывается. Что ты!.. Роняет она тут тарелку, само собой, кинулись подбирать, да лбами и… И вдруг Надежда, смеясь, его быстро — хвать и медленно, с толком, с горячим, нежным перегаром, целует. Прямо на корточках, посреди осколков. «На счастье!» — говорит. Губы ее эти большие, но не мокрые, а — влажные. Снаружи бархатного ворса, изнутри шелковой гладкости.
И Шнобель просыпается в ее квартире. Ее нет, ушла на работу. Он идет в отдельную уборную, идет в светлую, отдельную же кухню. А там… там на отдельных тарелочках сырок-балычок-колбаска, хлеб уже тонко нарезан! Из-под белой салфетки тянет китайским чайком. И записочка: ешь-пей, целую. Григорий Иванович убрал все это, только чайком попользовался, а сам вспоминает, что ночью было. А было такое, о чем Голобородько думал раньше — мужики сочиняют про все это разнообразие. Так нет же! Все, как в жизни. Но что интересно: так, да не так. Лучше. Вот оно где самое-то нужное для души прячется, скажи пожалуйста. На фронте было раз, да еще полраза в госпитале: не разобрал он вкуса. Кому скажешь — засмеют, но факт: не разобрал. А Надя, это… это же вообще!.. Плохо только, среди ночи расчестнился, сказал про свой диагноз. Даже насчет шпионов рассказал, даже про Томашево. Полуавтоматом захотел похвастаться, вот и раскололся. Женщина, она, по рассказам, даром что ночью жалостливая, днем она бывает совсем другая. А может, они все шизофренички? Не совсем, но все-таки? Не мешало бы их, если так, для профилактики в Томашево на полгодика каждую. Небось, и Надя тоже его застесняется. Подвел себя.
От напряжения чувств дома его внезапно повергло в сон среди бела дня. Сон был редчайший: приснилось то, что еще не легло в мешок подсознания, чтобы его оттуда, перетряхнув, втемную доставать. То, что вот, вот только что: тело белизны и тающей пышности пивной пены. И золотой завиток, растущий из коричневой, ноздреватой кнопки соска, словно из родинки.
Пойти к ней, — а вдруг выгонит с треском? Столичной-то водочкой любая голова затуманится, это да. А вот трезвая… Правда, записочка. Ну, культурная женщина, он тоже должен понимать. Ждать ее, — а она его адреса не знает. Вот они какие пироги…
Два дня мучился Григорий Иванович в поисках решения. Мучился и в то же время испытывал большой, захватывающий подъем. Давление крови поднялось и не опускалось даже во сне, хотя сон все-таки наступал под действием люминала. Это новое состояние организма — состояние острой нехватки другого организма — почему-то не пускало его на улицу и, напротив, гнало делать домашние дела. Два дня подряд мыл он полы, заменял пробки, чинил примусы и керосинки, точил ножи-ножницы, делал крючки и засовы и выводил клопов по всей квартире. Добрался даже и до мышей в чулане — зверья домашнего, но не прирученного еще никем до сих пор. Что ж, коли не приручить, мы тебя со свету сживем. И сжил путем остроумной хитрости: хлебных шариков с гипсовой начинкой — мышь съест, водички попьет, гипс-то у нее в пузе и закаменеет, — порадовав Берту с Клавдией Соколовой и удивив Валентину до крайности. Он починил кухонное радио, и на третий день хозяйственного экстаза, в момент, когда Берта Моисеевна радовалась, а Валентина злилась, слушая сообщение о невиновности врачей-вредителей, нашел решение вопроса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: