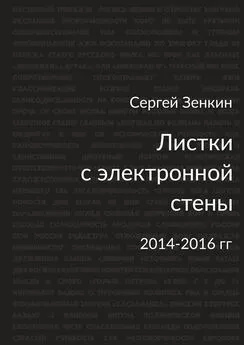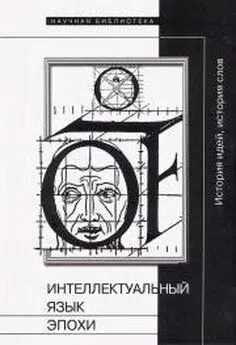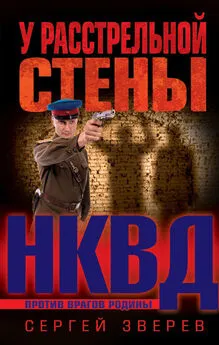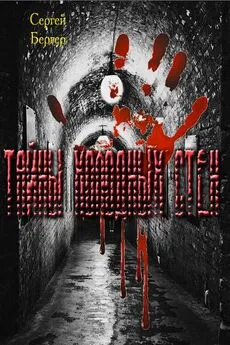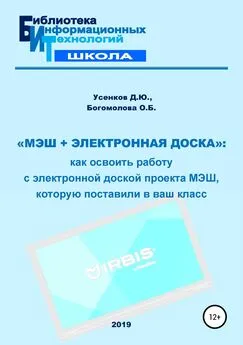Сергей Зенкин - Листки с электронной стены
- Название:Листки с электронной стены
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:978-5-4483-4142-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Зенкин - Листки с электронной стены краткое содержание
Листки с электронной стены - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Логика меньшего зла
10.10.2015
Я всегда терпеть не мог глупости. Как Флобер, которому она мерещилась во всяких «прописных истинах». Или как Буало, язвивший, что на всякого глупца найдется еще худший глупец, который станет им восхищаться. Или как наш Щедрин, описавший историю государства российского фразой «несть глупости горшия, яко глупость». С такими предшественниками легко стать мизантропом, который ходит и цепляет критическим крючком чужие умственные слабости. Люди это хорошо чувствуют и держатся от него подальше, боясь быть пойманными на какой-нибудь глупости, — а кто же из нас не бывает глуп хотя бы время от времени?
Однако в последние годы — наверное, это признак умудренности — начинаю думать, что есть горесть еще горше, чем глупость: это безумие. Не так страшно, когда человек бессмысленно хлопает глазами или даже по-дурацки смеется над тем, чего не понимает; хуже, когда он с остановившимся взглядом несет какой-нибудь истерический или параноидальный бред, от которого никто и ничто не может его отвлечь.
Это особенно заметно, когда по собственному опыту сравниваешь «Россию и Запад». Потому что по глупости у нас с Западом, можно сказать, стратегический паритет — хватает с обеих сторон, — зато запасы безумия у нас неисчерпаемые. Не обязательно буйного безумия, но и его тоже — хоть боеголовки начиняй. Или по трубам перегоняй, если найдутся покупатели.
Остается укреплять себя диалектикой: напоминать себе, что безумие — это такая усугубленная, пассионарная форма глупости, глупость в квадрате, глупость, ставшая страстью. Пламенная и непримиримая вражда к уму, прежде всего к своему собственному (который вообще-то есть у всех, хотя бы время от времени). Недомыслие, которое пытается стать сверхидеей, небытие, притязающее на онтический статус. А интеллектуалы и вообще мало-мальски умные люди должны не признавать этих претензий, помнить, что при всем своем пафосе безумие — это в основе своей просто неповоротливость и сбивчивость ума. Не folie, а bêtise и sottise. То есть надо редуцировать безумие к глупости и по возможности доказывать это другим.
…Вот и поди-ка это кому докажи, хоть бы даже себе самому.
(Отчасти навеяно громким разговором русских туристов за соседним столом в ресторане гостиницы при парижском аэропорте.)
FacebookАнгажированность
24.10.2015
В последнее время, выступая на конференциях в незнакомой среде, за границей, почти рефлекторно стараюсь обозначить, хотя бы в ходе дискуссии, свои политические взгляды. Раньше считал это дурным тоном, отступлением от нейтральности научного дискурса; да и теперь делаю это максимально сдержанно, коротким намеком. Но теперь это необходимо, чтобы люди вокруг не беспокоились, чего ждать от этого русского. По-моему, это вопрос учтивости.
FacebookЧетверть века спустя
26.10.2015
В Вильнюсе ноги сами собой понесли меня туда же, куда в первый приезд двадцать пять лет назад, — к зданию парламента. Тогда, летом 1990-го, борьба за независимость Литвы была уже в разгаре, но оставалось еще полгода до критического момента, до вооруженного противостояния в январе 1991-го. Вокруг парламента еще не громоздились баррикады, да и людей почти не было, и только на площадке перед зданием за раскладным столиком сидела девушка и собирала подписи под воззванием, призывающим вывести из Литвы оккупационные советские войска. Помню, как она расцвела от радости, поняв, что мы — русские, москвичи — тоже хотим подписать это воззвание.
Сейчас вокруг парламента снова было безлюдно; рядом построили памятный павильон, где выставлены фрагменты баррикад 91-го и фотографии погибших в те дни защитников независимости.
За несколько сот метров, на том же проспекте Гедиминаса, находится другое место памяти — мрачно знаменитое здание, где при советской власти располагалось НКВД-МГБ-КГБ, а в промежутке также и гестапо. Теперь часть здания занимает музей, который на туристической схеме обозначен как «музей КГБ», а официальное его название — «Музей жертв геноцида»: красноречивая двуименность.
Музей впечатляющий: можно осмотреть настоящую подвальную тюрьму, включая расстрельную камеру, собрано много предметов, оставшихся от литовских ссыльных в Сибири, от партизанской войны в самой Литве, от деятельности советской тайной полиции (обмундирование, оружие, аппаратура для прослушки и т.д.). Множество личных документов — писем, фотографий, лиц. Меня почему-то больше всего поразила стена, целиком занятая сотрудниками литовского КГБ — просто галерея портретов с именами и должностями, без всяких комментариев. Десятки, если не сотни маленьких снимков, то ли из личных дел, то ли с доски почета, на них обычные с виду дядьки, некоторые с русскими фамилиями, большинство с литовскими. Многие даже не сильно отличаются от героев сопротивления 1991 года, из мемориального павильона у парламента, — впрочем, так и должно было быть, от них же требовалось агентурное проникновение.
Называется это, как уже сказано, «музеем жертв геноцида», жертвой которого, по логике экспозиции, является литовский народ, страдавший от советского и нацистского режимов. Старый вопрос: чем геноцид отличается от оккупации, порабощения, тирании и массовых политических репрессий? О нем нельзя не задуматься, потому что во время немецкой оккупации на территории Литвы происходил настоящий, бесспорный геноцид — поголовное истребление людей по этническому признаку. Музей не замалчивает эту тему: в нескольких местах экспозиции рассказывается об убийстве евреев и цыган, на экране постоянно крутится фильм об участии в этом литовской айнзацкоманды (100 человек, потом численность сократили до 50, после войны поймано и наказано 20); в статистике потерь четко обозначено: «в 1941—1944 годах убито 240 тысяч человек, из них около 200 тысяч евреев». И все же обо всем этом сообщается кратко, почти без конкретных лиц и имен, без подлинных предметов и документов, кроме нацистских, — и, кстати, эта скудость экспонатов как раз и показывает отличие геноцида от тирании: от него сохраняется гораздо меньше следов, главным образом те, что оставлены палачами.
Музей невольно напоминает о том, какая эгоцентрическая это штука — коллективная память. Она жестко привязана к «нашему» здесь и сейчас, и потому самый худший враг для нее — последний по времени (о нем память свежее), самая худшая беда — своя собственная, и никакие самые сильные выражения не будут лишними для ее наименования (если кто-то от них воздержится, их непременно скажут другие рядом с ним). Не надо только объяснять это всякими ложными сущностями вроде «национализма»: ненациональная коллективная память, имперская или локальная, работает точно так же.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: