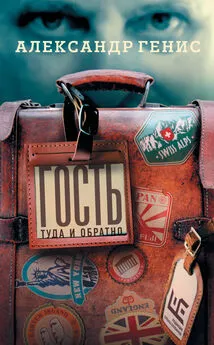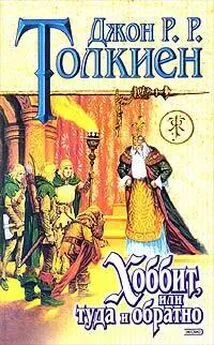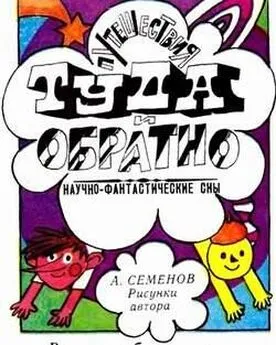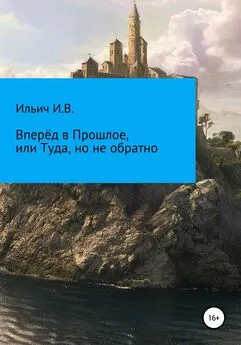Александр Генис - Гость. Туда и обратно
- Название:Гость. Туда и обратно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- ISBN:978-5-17-110424-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Генис - Гость. Туда и обратно краткое содержание
«В каждой части света я ищу то, чего мне не хватает. На Востоке – бога или то, что там его заменяет. В Японии – красоту, в Китае – мудрость, в Индии – слонов, в Израиле – всё сразу. Европа для меня как была, так и осталась геополитической мечтой, и я приезжаю туда, чтобы убедиться в том, что она настоящая, а не приснившаяся». Книга содержит нецензурную брань
Гость. Туда и обратно - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда одного художника спросили, почему он нарисовал бамбук красной тушью, он удивился:
– А какого же, по-вашему, цвета бамбук?
– Конечно, черного.
Чтобы так писать, надо забыть все, чему я учился.
Пастернак считал стихи губкой мира, Бродский – ускорителем мысли, Хармс – вещью из языка, которой можно разбить окно. Но, чтобы полюбить китайцев, нужно ценить пресную кухню. Их стих невзрачен. Их слог вторичен. Их афоризм цвета воды. Их словесность бедна, банальна, бессвязна. Но лишь потому, что она сразу темна и прозрачна. Доверяя читателю больше, чем словам, китайцы даже не потрудились изобрести пунктуацию. Оставшись без синтаксиса, мы сами должны связать мысли мудреца, который предпочитает системе самые простые и потому бездонные примеры.
Читать такое почти то же самое, что писать. Поэтому чаще, чем Библию, переводят книгу Лао-цзы, перекладывая его кто как на душу положит. Одни – для других, я – для себя:
Тот, кто стоит на цыпочках,
Нетвердо держится на ногах.
Тот, кто блещет,
Приглушает свой собственный свет.
Тот, кто ищет себе определения,
Не узнает, кто он.
Тот, кто цепляется за свою работу,
Не создаст ничего долговечного.
Если ты хочешь быть в согласии с Дао,
Сделай свое дело и иди.
– Китайцы, – пишет исследователь их древностей, – чрезвычайно высоко ценили попугаев, потому что видели в них полезный урок: слишком умную – говорящую! – птицу первой сажают в клетку.
– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
– Китайцем.
Но теперь, когда и седых-то волос осталось немного, цель моя все еще смутна, и я бреду к ней с помощью ритуалов.
Культура ведь – всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство – в зону, время – в праздник. Повторение создает смысл, и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить.
Я видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся, не догадываясь, что спектр наклонов иерархичен, как статус волков в стае.
Ритуал трудно зачать, но легко умертвить. Он умирает, как первомайская демонстрация, – когда его начинают рассматривать. Сила ритуала в бессознательном импульсе. Лишь заменив инстинкт, он становится непреодолимым. Поэтому нам проще убить человека, чем не дать ему на чай.
– Нет ничего важнее невидимого и незаметного, – говорил Толстой, пересказывая крестьянским детям Конфуция.
Собственно, к этому сводилось учение обоих, обещавших улучшить нашу породу и обрадовать ее. По Конфуцию, благородный всегда счастлив, низкий – всегда удручен. Чтобы изменить человека, нужно срастить в нем природу с культурой.
Я верю в этот проект с тех пор, как научился читать, особенно китайцев. Их история и впрямь не лучше нашей, но меня в ней волнуют лишь те ритуалы, которым стоит подражать. Поэтому я часто ухожу в горы, даже зимой. Тем более зимой.
– Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, – писал Пастернак, – когда есть дрова.
В мороз природа не дает себя забыть, как это с ней случается в нежаркие летние сумерки. Зимой ты нутром ощущаешь свою уязвимость: угроза лишена лица, как старость.
И горы зимой охотнее демонстрируют свое черно-белое устройство. Непостижимо сложное, оно все-таки есть. Ты чувствуешь внутреннюю логику скалы и распадка. Камни громоздятся, подчиняясь правилу, исключающему, как закон всемирного притяжения, исключения. Этот непоколебимый порядок китайцы называли «ли». Он – внутренняя организация вещей, которую нам не дано постичь, но мы все равно стараемся, ибо культура всему учится у природы, чтобы стать ее частью.
Чуть-чуть не добравшись до вершины (из уважения к ней), я усаживаюсь лицом к Гудзону. Отсюда не видно ни труб, ни заводов, только горы и реки. Природа одолжила пейзаж, завершить его – наша задача. Трудясь над ней, я однажды так долго сидел зажмурившись, что из кристального воздуха материализовался запах сухого помета, которым топили фанзы в безлесном Китае.
Суши из воблы
Будучи лучшим писателем Японии, Мисима считал себя вправе претендовать на Нобелевскую премию, но ее дали Шолохову, от чего автор «Золотого храма» так и не оправился. Пять лет спустя, разочаровавшись в Западе, Мисима решил вернуть родину на путь, объединяющий, а не разлучающий (как требовала американская оккупационная администрация) «хризантему» с «мечом». Ради воскрешения воинственного национального духа писатель попытался совершить государственный переворот, который уже через полчаса закончился самоубийством провокатора.
Обряд сэппуку, однако, выглядел совсем не таким соблазнительным, каким его много раз представлял себе и блестяще описывал читателям Мисима. После того как автор, сняв с себя пошитый во Франции мундир выдуманной им добровольческой армии, вонзил антикварный клинок в солнечное сплетение, залившийся слезами юный ассистент не смог одним махом отрубить голову хрипящему классику. С Мисимой покончили со второго захода.
За несколько лет до этого в журнале «Бунгэй», где, как ни странно, мне тоже довелось печататься, Мисима опубликовал эссе, заранее объясняющее его дикую выходку.
– Французы, – писал он в нем, – сдались Гитлеру, потому что им было жалко Парижа.
– Японская история, – говорил Мисима, – отличается от европейской тем, что не различает оригинал и копию. Всякий храм подлежит обязательной перестройке.
В сущности, вся Япония – «новодел», вроде того, что москвичи не могут простить Лужкову. Соединив старое с новым и упразднив между ними разницу, история здесь притворяется вечной, как горы и реки, не говоря уже о море. Она так плавно вписалась в круговорот лет и зим, что жизнь стала плодотворным анахронизмом, сплавляющим раньше и позже в сплошное сейчас. И это объясняет, почему влюбленные в вещи японцы еще больше ценят принципы, позволяющие их изготовлять. Вполне официальным статусом «национального сокровища» в Японии пользуются не музейные раритеты, а мастера, умеющие их делать, – чашку, кимоно, корзину.
– Культуру, – писал Мисима, – надо не хранить, а творить.
Полагая «Путь самурая» высшим достижением имперского гения, Юкио Мисима вспорол себе живот, чтобы японская культура не стала «украшением вроде фонтана в универмаге».
По-моему, все это болезненная чепуха. Сам я считаю картинную смерть моего любимого японского писателя патологическим капризом исписавшегося гения. Каждый том его великолепно задуманной тетралогии получался хуже предыдущего. Может быть, поэтому, закончив буддийскую эпопею «Море изобилия», которая обещала стать аллегорической историей Японии в лицах и чувствах, но не стала, Мисима в тот же день поставил кровавую точку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: