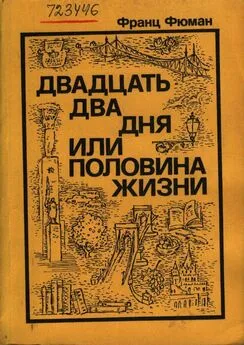Франц Фюман - Двадцать дня или половина жизни
- Название:Двадцать дня или половина жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1976
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Фюман - Двадцать дня или половина жизни краткое содержание
Двадцать дня или половина жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы приучили себя связывать понятие фатализма с понятием пессимизма, но существует и вполне оптимистический фатализм. Изречение Брехта, что социализм таков — настолько хорош или настолько плох, — каким мы его создали, предостерегает именно от такой фаталистической веры в автоматические свершения.
В сказке мораль автоматизирована; в мифе она складывается. Мифы — процесс, сказки — результат.
В сказке всегда побеждает добрый (он всегда герой сказки), в мифе боги непобедимы.
Среди нас живет и творит рассказчица мифов самого высокого класса — Анна Зегерс. Ее «Крестьяне из Крушово» — песнь новой «Илиады»; ее аргонавты отправляются в Мексику и на Гаити; то, что происходит в квартире фрау Крамптчик, когда там устанавливают пулемет, могло бы войти в новый том «Метаморфоз», а «Человек и его имя», несмотря на некоторые неудачи, повествуют об истории Одиссея нашего времени.
Мы отрезаем себе пути к пониманию мифа, путая мифическое с мистическим. Элемент мифологического — это именно то, что возвышает реализм над натурализмом, создание образов — над простым иллюстрированием. Это отличие определяется вовсе не тематикой, например тематикой политической. Именно у Зегерс можно научиться тому, как такое исключительно политическое явление, как линия партии, обретает жизнь в литературе.
Мне кажется, я нашел подступ к занимающей меня проблеме стыда и бесстыдства. В мифе всегда присутствует весь человек, в том числе и как существо, обладающее полом, и как создание природы, но он никогда не сводится только к одному или к другому. Подобное сведение к полу и естеству — лишь оборотная сторона мещанского жеманства, но отнюдь не его преодоление, и потому оно носит столь же мещанский характер. Так, например, сообщение о том, что человек вынужден совершать дефекацию, не расширяет представление о человеке, и изображение этого акта не является признаком смелости писателя. Но если Саулу, чтобы справить нужду, пришлось войти в пещеру к Давиду, и таким образом он попал в руки своего врага, и во время этого акта его друг-враг отрезал кусочек от его одеяния, то все это — часть великого мифа, который не мог бы произойти нигде в другом месте и никак по-иному.
Настало время исправить одну фразу: «Герой всегда боится». Она написана в одной из моих стихотворных сказок, я недопустимым образом обобщил здесь черту одной румынской сказки о сражении с драконом… Эта черта меня покорила, это было как раз то, что я искал в сказке, и я, ухватившись за нее, понадеялся, что она подтвердится в других сказках. Но этого произойти не могло; в сказках герои никогда не испытывают страха, страх живет в том измерении, которое из сказки исключено.
Как ни глупо это звучит, иногда я боялся, что уйду из жизни, так и не исправив этой фразы, но мне для этого просто не представлялось случая.
Разница между сказкой и мифом — это разница между пониманием и осуществлением. Кончаясь, сказка полностью исчерпывает себя, но осуществить ее невозможно, разве только в снах наяву. Мифы так же не исчерпываются рациональным их объяснением, как и художественные произведения, но они непрерывно происходят в действительности, кто видит их и может их рассказать — тот поэт.
Диалектика в сказке — отблеск диалектики в мифе, результат диалектического развития, а не его процесс. Мифы — это действие происходящее, а сказки — это уже свершившееся, но никогда не происходившее.
Позже у Габора прочел известное высказывание Томаса Манна: «За последние десятилетия миф так часто служил мракобесам-контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как „Иосиф и его братья“, в первое время после своего выхода в свет не мог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в его мутном потоке, подозрение это вскоре рассеялось: приглядевшись поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не счел бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою оружием, которое поворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма. Здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — гуманизирован, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа».
И несколько далее в том же докладе его слова о людях, «не имевших корней в прошлом, но бывших его частицей…».
В сказке все взаимозаменяемо, в мифе ничего нельзя заменить; миф — это процесс, в который ничего нельзя добавить и из которого ничего нельзя исключить. Мифы могут пересекаться, они могут сплетаться, как сплел Эсхил миф об Ио [130] Ио — в древнегреческой мифологии одна из возлюбленных Зевса.
с мифом о Прометее, но часть, принадлежащая мифу о Прометее, не может быть заменена частью, принадлежащей мифу об Ио, а часть, принадлежащая сказке об Аладдине, может быть заменена частью сказки об Али-Бабе.
Поэтому люди в сказках не претерпевают внутреннего изменения, они могут быть заколдованы и расколдованы, превращены в свою моральную противоположность. А становится минус А, чтобы снова стать А, или минус А становится плюс А. Этот переход в противоположность происходит всего лишь путем замены определений.
Советские драматурги, создававшие сказки, — Евгений Шварц, Паустовский, Олеша — возвращают сказку к мифу. «Тень», «Обыкновенное чудо», «Дракон», «Стальное колечко», «Три толстяка», несмотря на их названия, мифы, а не сказки, отсюда их воздействие.
Напротив: сказочники буржуазного мещанства переводят сказки из двухмерного мира в одномерный; их продукция использует осколки и обломки народной сказки, из третьих рук передают они читателю эти выжимки. В них уже не осталось ничего от мифа, а значит, и от жизни.
Путь от сказки к мифу — путь к полной жизни, к цельному человеку, к диалектической реальности.
Встреча с читателями: я уверен, переводы из Фюшта твердо стоят на ногах, если публика примет их, значит, так оно и есть. Но «Очень больно» было неверно начато и не удалось. В стихотворении Йожефа есть ужасающе гротескные черты, которых я не передал.
Найду ли я в себе силы еще раз приняться за Ади.
И кто из нас знает, каким был Петёфи.
Долгая вечерняя прогулка с Золтаном и Ференцем, и я только сейчас узнаю, когда разговор заходит о «Надьвилаг» — журнале, публикующем произведения мировой литературы, — что Золтан перевел «Скарданелли» Хермлина.
В реке — цветы и звезды, а в одном месте, только в одном, — огненное колесо.
Ференц цитирует Гёльдерлина [131] Гёльдерлин, Иоганн Кристиан Фридрих (1770–1843) — выдающийся немецкий поэт, драматург, переводчик.
.
Интервал:
Закладка:
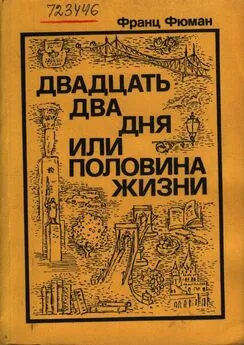


![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/1082199/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej.webp)