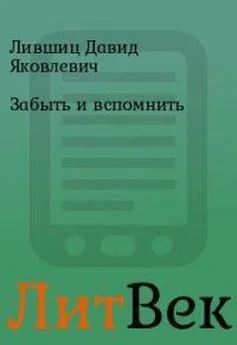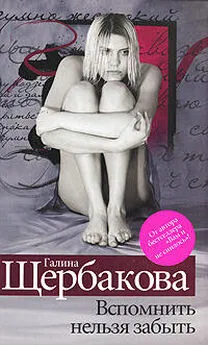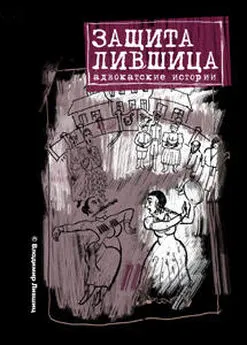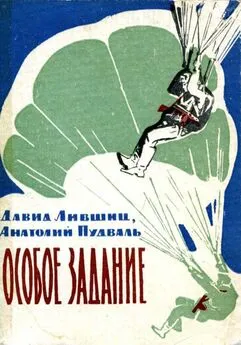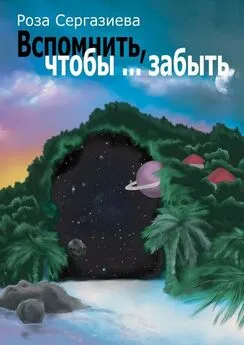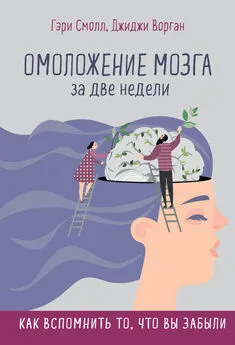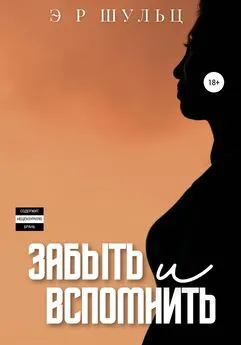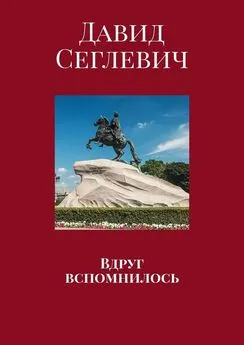Давид Лившиц - Забыть и вспомнить
- Название:Забыть и вспомнить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Лившиц - Забыть и вспомнить краткое содержание
Родился в 1928 году.
Закончил Уральский Государственный университет им. А.М. Горького.
Работал в газетах, на телевидении, в журналах “Урал” и “Уральский следопыт”.
Автор нескольких книжек для детей, альбома “Признание” (фотографии Нади Медведевой) - о Свердловске, документальной повести “Особое задание” (совместно с А. Пудвалем), сборников стихов “Предчувствие ностальгии”, “Негевский дневник”…
Книга -”Забыть и вспомнить” – из последнего.
В 1992 году переехал к детям в Израиль. Живёт в Беэр-Шеве, городе, многократно упоминаемом в Библии.
Член Союза журналистов России, член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Забыть и вспомнить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
- Наверно, - шутил брат, - там у тебя проценты растут на вложенные деньги.
Со временем я совсем перестал думать об этой истории, - к тому же узнал через год-другой удивительные для меня вещи: взрослые парни, а среди них были и те, кого недавно выпустили из тюрьмы, играя в решку, и, отойдя во время игры за угол (вроде, по малой нужде), проглатывали серебряные полтинники и рубли (эти монеты были тогда ещё в ходу). Делали они это, чтобы оставаться в прикладе, скрыть от партнёров выигрыш, потому что правило было мёртвое - играть до полного проигрыша или выигрыша. Ловчил били и презирали. Но самое жестокое наказание, сказать к слову, ожидало мошенников. Были мастера, которые, ювелирно спилив плоскости двух монет с изображением решки, склеивали две половинки так, что обе стороны показывали «орла», как ни бросай. Я вырос, окончил школу, университет, женился, у меня родилась дочь, потом много лет спустя – сын, и мы назвали его Михаилом, в честь погибшего на войне моего старшего брата.
Однажды, когда сын мой подрос, и ему стало столько лет, сколько было мне, когда приключилась вся эта история с монетой, я увидел, как он играет с шариком от детского биллиарда, пытаясь затолкать его в нос. Я решил рассказать ему, в воспитательных целях, конечно, про случай из моего детства. Мишка вытащил шарик из-за щеки, куда успел уже сунуть его, после того, как не смог протолкнуть в ноздрю, и стал внимательно слушать меня, раскрывая, по мере рассказа, всё шире рот. Моя история подпадала под жанр истории «с бидой». Это мой старший внук Алёша, сын дочки Марины, так называл в детстве страшные истории и сказки, - когда был маленький, всегда просил на ночь рассказывать ему историю с бедой, это ему почему-то очень нравилось. Но Алёша родится на свет много позже, и пока что историю о том, как я проглотил однажды десять копеек, я рассказываю моему маленькому сыну. Стараюсь избегать подробностей, как я натерпелся страха и как бежал в поликлинику… Миша, внимательно, не перебивая, выслушал рассказ о проглоченной монете… Не старайтесь, не угадаете, что именно он сказал. Вот наш разговор. Помолчав, малыш спросил:
- И что было дальше?
- Врачи сказали, – ешь гречневую кашу, и всё пройдёт.
- Как?
- Ну… выйдет, мол, вместе с… кашей.
- И что? Вышло?
- Не уверен.
- Ну, ты… смотрел?
- Смотрел.
- Внимательно?
- Ну, в общем, да.
- И что? Не нашёл?
- Нет…
Миша тяжело вздохнул и с нескрываемым огорчением произнёс:
- В общем, пропали денежки.
…Самолёт опустился в аэропорту Бен-Гуриона, пассажиры поаплодировали лётчику за хорошую посадку. Через пару часов формальностей мы вышли из здания аэропорта, и меня обнял сын. «Ты стал такой же тощий, как я», - сказал Миша, - легко, как пушинку, приподнимая меня над землёй. Павлик, внук, уехавший пятилетним, за два года подрос и повзрослел. Он проговорил смешно и с неожиданной для него самого радостью узнавания:
- У вас те же самые лица!
Он удивлялся нам, а мы – первым новым впечатлениям: жаркой погоде после снежного ноябрьского Свердловска, будничному мирному спокойствию, разлитому вокруг, стерильной чистоте залов и щедрому обилию света в помещениях. Нас, новых репатриантов, завораживала четкая бесшумная работа принимавших нас чиновников. В залах скопились сотни прилетевших, но за короткий срок всё было сделано быстро и бесшумно, выданы документы, вещи, деньги. Толпа, робко угощавшаяся кофе и чаем с булочками и печеньем, звонившая бесплатно родным и друзьям, оставленным в Союзе, эта толпа незримо растаяла, разъехалась.
Машины, ждавшие у подъездов, услужливо развозили прибывших, куда кто хотел. Мы погрузили вещи в маршрутку, похожую на «рафик», и жена вместе с внуком отправилась в Беэр-Шеву, к дочери, а я с сыном - следом на его «Субаре». И вот – новые удивления: ухоженные поля и дороги, какие я видел только в западных кино. Распахнутые магистрали и зрелище потока всевозможных авто поразили воображение провинциала и отвлекли от грустных мыслей. Там, в этих мыслях, была большая печаль об оставленной жизни, её чуть сгладили воспоминания о российских дорогах. Утешительный приз.
Причуды житейских ассоциаций! Сидя в бегущей «Субаре» и разглядывая летние в ноябре пейзажи, я не думал, что цепочка впечатлений выудит через некоторое время из небытия воспоминание о проглоченном гривеннике… Миша остановился у придорожного телефона, и я заметил, что вместо монеты он сунул в щель автомата какую-то картонку. Через некоторое время мы въехали на заправку, и история повторилась: вместо денег Миша протянул заправщику картонку, на этот раз другого цвета. Потом мы припарковались возле дорожного ресторанчика и на этот раз, угостив меня пивом и мороженным, Миша, рассчитываясь, снова извлёк из бумажника карточку. Кажется, я начинал понимать происходящее, но на всякий случай спросил:
- У тебя нет наличных денег?
- А зачем? Обходимся кредитными карточками.
Вот тут я и подумал, - будь в нашей жизни кредитные карточки, я, может, и не проглотил бы тогда десять копеек. Наивно, конечно, откуда у малышей кредитские карточки. Но уж очень мне понравилась думать об этом.
Тут надо сказать немного про нашу жизнь перед отъездом, а то мои удивления перед кредитными «манипуляциями» сына покажутся преувеличенными. (Хотя, в сущности, они такими и были).
Теперь в России в витринах изобилие. Но когда мы уезжали, магазины познали глобальную и стойкую пустоту прилавков и витрин. Конец восьмидесятых, начало девяностых… Молоко по талонам, и только для детей. Колбаса и мясо редки, и только по нормам в одни руки. Водка, масло – по талонам. Очереди. Ельцин, тогдашний секретарь Обкома КПСС, расстарался, и в пригороде набрала силу птицефабрика, - появились яйца… Говорили, что у нас, в промышленном центре, ещё жить можно, а вот в других городах, совсем худо. Наверное, это было так. Магазины печально демонстрировали нечто, напоминавшее выставки поп-арта. Витрины центрального гастронома, обнаженные, как призывники на медосмотре, выдали экспромтом шедевр нового дизайна: в пустом пространстве стёкол на фоне настенного кича-граффитти красовались пирамидки полиэтиленовых мешочков с семечками. Шедевр инстоляции. В другом фирменном магазине, на полках, от стены до стены, выстроились шеренгой батареи последней «роскоши» - бутылки с подсолнечным маслом. («Мамочка, посмотри, сколько анализов!» – подивилась маленькая бледная девочка, войдя в торговый зал»).
Рассказываю не страстей ради, или чтобы «пожалиться», как говаривала соседка тётя Дуся. Ежели нет изобилия, нет и конкуренции, а раз нет конкуренции, – нет и борьбы за покупателя, этого главного вдохновителя создания всяческих удобств, в том числе и кредитных карточек. Карточки эти, как нечто потустороннее, являлись нам загадочными и абстрактными эпизодами чужой жизни в иностранных книгах и кино.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: