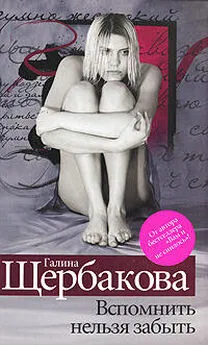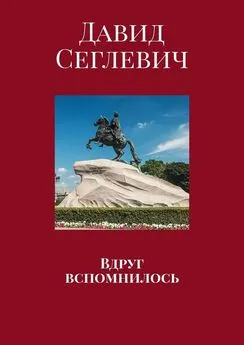Давид Лившиц - Забыть и вспомнить
- Название:Забыть и вспомнить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Лившиц - Забыть и вспомнить краткое содержание
Родился в 1928 году.
Закончил Уральский Государственный университет им. А.М. Горького.
Работал в газетах, на телевидении, в журналах “Урал” и “Уральский следопыт”.
Автор нескольких книжек для детей, альбома “Признание” (фотографии Нади Медведевой) - о Свердловске, документальной повести “Особое задание” (совместно с А. Пудвалем), сборников стихов “Предчувствие ностальгии”, “Негевский дневник”…
Книга -”Забыть и вспомнить” – из последнего.
В 1992 году переехал к детям в Израиль. Живёт в Беэр-Шеве, городе, многократно упоминаемом в Библии.
Член Союза журналистов России, член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Забыть и вспомнить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С завершением курса философии образ этого человека понемногу отошёл в прошлое. И вдруг полоснул через год наше воображение с неожиданностью.
«Серый и серый»… И вот узнаём:
Сушков заперся в номере гостиницы, лёг в тёплую ванну и вскрыл себе вены… Случилось это в Крыму, где он собрался провести отпуск с женой, но не дождался её: он узнал, что жена ушла к другому.
Говорят, он не оставил никакой записки. Это похоже на него, всегда державшегося в тени и избегавшего пафоса.
Ещё говорили, - по другой версии, - что ушёл из жизни он не из-за несчастной любви. Или не только из-за этого, так сошлось, одно к одному. Говорили, что однажды случай и любознательность свели его с новой, запретной тогда у нас, но очень модной на западе философией - экзистенциализмом. Его марксистко-ленинская теория, практика и эрудиция не выдержали столкновения. Основы, цель и смысл жизни были потрясены. Впереди - тупик: о преподавании нового не могло быть и речи, а вера в старое дала трещину. Вот уж, как не вспомнить тут слова: мир раскололся надвое, и трещина прошла через сердце поэта.
Так говорили. Что тут правда, а что нет, неведомо мне.
Знаю, однако, - жизнь даёт уроки, оставляя за нами право выбора: пренебрегать ими или усваивать.
Если б мы могли знать жизнь, себя и людей наперёд!
Высунулся ли я бы тогда со своей чистой, но такой неважной правдой, провидя судьбу и силу человека, сидевшего напротив, за экзаменационным столом?
Конечно, врать дурно. «Что лживо, то и гнило».
А правду говорить – хорошо.
Но, может быть, и не лезть с правдой, как с жупелом, без крайности? По всякому поводу. А то и без повода. Не заблуждаться на счёт неё, полагаясь, как на панацею. Как на что-то знаковое.
Она не дышло, не оглобля - правда, ею не тычут, походя, часто невпопад. Высокая цена, которую человек платит за убеждения и образ жизни, в скромности своей выше деклараций и показухи. И тогда по-новому, совсем по-новому, открываешь для себя смысл поговорки: «Бог правду видит, да не сразу скажет».
Не сразу – значит, не всуе. А только к месту.
Важно знать, когда оно - к месту.
Тогда – вынь да положь её!…
Уж перед Иваном Ивановичем – всегда.
30.05.2000
СМЕРТЬ В БАЛАДЖАРИ
Не знаю, перед чем больше робеешь, - перед словом, или перед жизнью, которую не можешь выразить словом.
Она не сочиняет сюжетов, просто течёт, перебирая нас в своих струях, как волна прибрежную гальку. Накатила, пронесла, поворошив, откатила, смыла с песка, - ни следа. Другую волну выкатила на песок, закрутила, завертела, ушла, – оставила сумятицу, - была или нет?
Запоминается неожиданное, не то, что непривычно само по себе, а то, что не повторяется монотонно. Будничная однообразность на эвакопунктах не запоминается деталями, они схожи, как песок или галька. Смерть в будничном пути, даже в ряду воздушных тревог и налётов и тревожного жужжания в небе немецкого самолёта-разведчика – «рамы», чрезвычайная подробность. Особенно, когда видишь её впервые, и когда тебе только тринадцать лет.
Воздух – видим. Его можно пощупать.
Он дрожит, колышется, истекает над раскалёнными камнями, шпалами, сочащимися мазутом, над пульманами. Последние, как и всё вокруг, размыты, без внятных контуров, и марево волнится и перетекает над синими рельсами, и поручнями, обжигающими кожу, как морозное железо.
Но лезть надо. Снизу содержимое не угадаешь. Там, в этих вагонах без крыш, - грузы в ящиках, контейнеры, уголь, станки, лес. Но позавчера в одном из самых дальних эшелонов, уже без надежды найти что-либо годное в пищу, люди наткнулись на пульман с пшеницей. Набирали, воровато озираясь, в карманы и за пазуху. Сторожей не встретили.
Три дня еды – крутая набухшая сытная каша. Даже без соли вкусно. Со щепками для костерка, - чтобы сварить кашу, - вышла странность. Ни палочки, ни сучка, ни веточки в запасе уже давно не было, - вокруг на километр всё подобрано, подметено, вылизано. Уже помногу раз облазаны пути, закоулки, пристанционные тупики и палисадники, пустыри, скверики, - ни прутика.
Тьмы беженцев свалило на станцию – с Украины, Ростова, Крыма. Когда немцы подошли к окраине Орджоникидзе, за двое суток власти эвакуировали большую часть жителей… Поток этот захлестнул железные дороги, волной накатился на Баладжари и здесь расплылся окрест: Баку, вожделенный пункт выхода к морю, был переполнен под завязку и больше поездов не принимал. Станционные пути закупорены эшелонами. Как артерии склерозными бляшками, умно говорила знакомая врачиха.
Люди прижились… Казалось, другой жизни и не было, кроме копошения возле этих костерков. Приспособились, прицепили одеяла и простыни к крюкам и поручням вагонов и платформ: под выгоревшими навесами искали спасительной тени от раскалённой жаровни над головой. Разжились кирпичами и булыжниками, а кому повезло и таганками, соорудили очаги, и на этой самодельщине варили, кто что мог. Но уже не было вокруг пищи для огня, ничего, что могло бы гореть… В поисках щепок проводили иногда целые дни…
Я сижу на корточках перед остатками вчерашнего костерка и ворошу золу. Откуда-то надвинулась тень, и я поднимаю глаза. Это Додька, тёзка. Додька младше меня на целых три года. На его лице почти всегда улыбка. Сейчас он сияет, - в руках целая охапка дров. Он не спешит с ней расстаться, чтобы все оценили удачу… Добротные, каждый с полметра, бруски, серые, иссушенные временем и солнцем… «Откуда?» – «Я тут искал… тут кладбище… недалеко… старый крест… он совсем покосился, взял, он легко сломался…»
Тревога темно вдруг накатила на меня. Воздух колыхнуло тяжким предчувствием (откуда?)… «Не надо было это делать!»…
Я встал и поплёлся к платформе…
Я не стал разжигать костра.
То неведомое, чему должно было случиться, случилось на другой день.
Никакой прямой связи с крестом, поломанным на дрова, у события не было. Но память навсегда связала эти картины: мальчишка с охапкой сломанного креста… Костёр, так и не разожженный мной. И то утро, начинавшееся безмятежно.
…Танк наезжал на меня со скрежетом, гусеницы были в полуметре от лица, я видел комья сырой глины на грубом железе и прилипшую к ним былинку… Гусеница больно ткнула меня в лицо, и я проснулся. Не сразу понял, где я и что… Но вот разглядел перед носом замызганную подошву босоножки. Босоножка принадлежала тёте Шифре. Должно быть, тётка потянулась во сне и упёрлась в меня.
Тётя Шифра села и стала озабоченно поправлять платок на голове. У тёти Шифры, сколько её помнил, всегда озабоченный вид, словно она решала очень важный вопрос.
Она считалась какой-то дальней нашей родственницей. Тётка торговала в киоске газированной водой. Мы часто с приятелем, наигравшись в лапту или другую игру, пробежав два квартала от дома, возникали перед киоском, с трудом дотягиваясь до прилавка, и выразительно смотрели на стойку с сиропами. Тётя Шифра молча нам кивала, и наливала в стаканы газировку. Пока мы пили стреляющую пузырями прохладу, она озабоченно смотрела мимо и о чём-то думала… Когда объявили эвакуацию, тётя Шифра попросилась с нами в эшелон и пришла на вокзал с небольшой сумкой, куда собрала своё имущество.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: