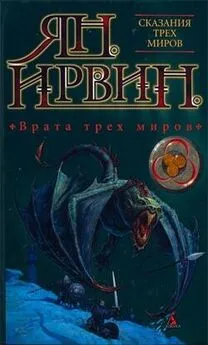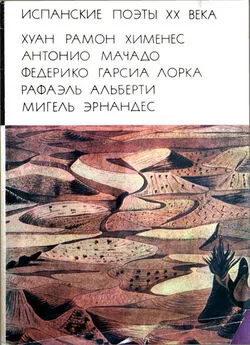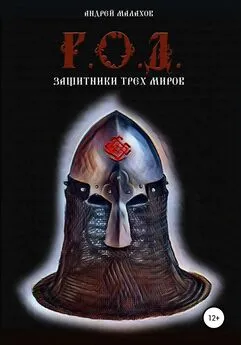Хуан Хименес - Испанцы трех миров
- Название:Испанцы трех миров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-117-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хуан Хименес - Испанцы трех миров краткое содержание
X. Р. Хименес — художник на все времена и первый из первых в испанской лирике XX века.
Испанцы трех миров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И следом — искры света и музыки, жгучие и жаркие сполохи, золотые зарницы на все четыре стороны, до самого кладбища, ответные вспышки в алой, синей, зеленой мозаике балконных окон, электрические разряды золотого огня. Шаг медника по надраенной брусчатке, по голышам в зеленых былинках, мимо свежевыбеленных субботних стен, в осенней синеве, где так радует солнце и дышат первые дожди!.. «Кто купил — не сглупил, дин-дон-дилидон!..» Вдруг солнце скрадывает тучка, черная мушка, сама не больше солнца. И медник из золотого сперва становится медным, блекнет, потом чернеет, меркнут жестяные латы, редеет и гаснет львиная грива, словно тучка смыла его с Новой улицы и унесла на солнце или само солнце всосало его, оставив пустую оболочку, сморщенную кожуру. У него проступало лицо и крикливо круглился рот, как у любого торговца. И «динь-дон» переходило в «дзинь-дзинь», а золотая ворожба оборачивалась честной бедностью, услужливой и невзрачной. Мне казалось, что появлялся другой медник, совсем другой… Поникший, сгорбленный своим искусством, подручный бедноты. И женщины окружали его и покупали задешево.
Но… снова солнце в ровной синеве, снова крыло света взмывает к самому морю, снова светлеет желтизна и лучится золотом. И снова — слепящий, светозарный медник, без лица, без облика — миф, царь и бог медников, дух солнцеворота. Он не торгует — он слишком богат и раздаривает себя, единственный, победоносный, с горсткой меди в потайном кармане, чтобы полакомиться в дешевой харчевне. Мой солнечный медник!
УГЛЕЖОК
Приземистый невзрачный паренек из Палоса с ясными, вечно вытаращенными глазами, он заготавливал товар в лесу и грузил его на старую ослицу, вернее говоря — делил с нею груз. Не взгромождался поверх мешков, а помогал ей чисто по-сыновьи.
Ослица была спутницей едва ли не всей его жизни, матерью, сестрой и подругой. Она была для него всем, образцом и подобием. Она согревала жизнью горную глушь, и с ней он забывал заманчивые морские отмели.
Этой зимой она слегла. Он силился понять, что с ней, и, собрав воедино всю свою любовь, ломал голову, не зная, что делать. Долги, страшно долги часы темной лесной тоски. Плакучий ветер в соснах, безучастные птицы, беспросветные дали.
Когда ослица слегла, он не смог поставить ее на ноги и лишь отчаянно старался хоть чем-то ее порадовать. Он обложил ее соломой, таскал ей свежую траву, предлагал ей свой хлеб и свои сардинки. Он раскрашивал лицо сажей и суриком и в таком виде выплясывал перед ней что-то магическое и первобытное или, растянувшись напротив, часами рассказывал ей сказки и пел песни на собственные, подходящие к обстановке, слова.
Когда похолодало, он ради больной развел огонь на славу и поддерживал его час за часом, пока бедняга не умерла.
«Зато она умерла довольной!» — говорил он, выкатывая огромную чумазую слезу.
ГРАНАДСКИЙ ВОДОНОС
Сумерки, затаенная Гранада, Хенералифе и я, замерший впотьмах на ступеньках водостока, утомленный неземными красками райского вечера, бесплотной тенью погруженный в ту бездонную фиалковую темноту, что росла и все вокруг растворяла в небесной прозрачности, пока не остались одни звезды.
Вблизи и вдали, из лабиринта струек, родников и стоков, вода обдавала меня свежестью цветистых отголосков. Она без конца сбегала и бежала мимо, и мой слух, настраиваясь на нее, схватывал малейший звук с чуткостью чудесно слаженного инструмента; погруженный в себя, то был уже не инструмент, а сама музыка воды — музыка, ставшая немолчной, своевольной водой. И музыка эта становилась все внятней и звучала все смутней, потому что звучала уже во мне, в лад моей крови, моей жизни, и я угадывал мелодию моей жизни в беге воды. Я слышал сердцебиение мира. И чем темней и звучней становился воздух, тем окрыленней пела гранадская вода, и все во мне звучало в лад воде, которой я не слышал, потому что сам был ее песней и всем, о чем пелось…
Мне почудилась узкая тень, и нелюдимая, чуткая тишина, вся — напряженный слух, сгустилась в угловатую тень человека, такую же тень, как я. Мне показалось, что приближался он смущенно и нерешительно. И наконец заговорил, но так, словно боялся спугнуть журчание:
— Слушаете воду?
Между моей тенью на ступеньках и чужой, по ту сторону перил, пела вода, и без устали, блестя глазами, бросая на нас беглые взгляды, спешила дальше, и, наверно, замирала на уступе, глядя вниз, перекликалась с пустотой, полусмеясь, полуплача, пропадала и вновь возникала, везде и нигде, завораживая своей то ли правдой, то ли ложью.
— Слушаете воду?
— Да, — кивнул я, все еще в забытьи, — похоже, и вам это нравится?
— Да не должно бы, — отозвался он, — тридцать лет уж ее слушаю.
— Тридцать лет… — повторил я словно в полусне, плохо понимая, что значат эти слова.
— Представляете, сколько она мне понарассказала?
И, помолчав, добавил:
— Всего наслушался…
Сомкнулась ночь, и он потонул в темноте и плеске.
МЕХАНИК ИЗ МАЛАГИ
Выбирались мы из Малаги с трудом. То и дело мотор задыхался и глох. Из очередной мастерской сбегались механики и, долго не думая, пинали машину куда попало, выжимали сцепление, потели и дружно ругались. И все зря. С великим трудом мы дотащились до мастерской на краю города, у подъема на Гранадское шоссе.
Из темной глубины, весело щурясь от раннего солнца, не спеша вышел рослый мужчина, явно опытный и знающий себе цену. Он уверенно подошел к машине, ловко откинул капот, наметанным глазом заглянул внутрь и, погладив машину, как живое существо, легко и точно тронул что-то понятное ему одному. Потом так же ловко и бережно опустил капот.
— Машина в порядке. Езжайте куда хотите.
— Да как же в порядке? Три механика ничего не сумели!
— В порядке. Просто с ней грубо обращались. Машина тоже любит ласку.
Когда мы облегченно и уверенно свернули на слепящее шоссе в буйной июньской зелени, я оглянулся. Механик стоял подбоченясь — синий силуэт во тьме дверного проема — и следил за нами с явным удовлетворением.
Я уверен, что все эти люди со вкусом ели и спали и со вкусом встречали свой трудовой день. И если бы за труд, за их работу от души платили по справедливости, чего бы только не сделали они в жизни, своей и нашей. В том-то и суть. Всех нас должно оценивать по достоинству.
Стало расхожим мнение, что поэзия расслабляет, что это удел мечтателей, а не мощное проявление жизни. Но самые мощные страны всегда славились самой утонченной поэзией. Китай, Греция, Рим. Сильные страны знали всегда и знают сегодня, что поэзия, достигшая вершины, ведет в народ: чувство тем долговечней, чем оно естественней, чем оно ближе к народному. Кто, подобно мне, вырос в захолустье, тот хорошо знает, как отзывчивы простые крестьяне, как они трогательно чутки к той хрупкой красоте, что их окружает, — к облакам, цветам, птицам и звездам, как чувствуют они ветер и воду. Это городу в лице чинуш, торгашей, писак и клубных завсегдатаев подобная чувствительность кажется слабостью. Рядом с этими шулерами крестьянин выглядит робким, затурканным недорослем, подавленным их дутой спесью. И все потому, что в городе он лишается тех мимолетностей, что дают ему силу и питают ее. Вживаясь в ощущения, пробуя окрестный мир на вкус, на цвет, на запах, на ощупь, он остается естественным и живет в ритме природы. В поле как нигде очевидно родство человека с землей, очевидно, что человек — это вздыбленный пласт земли, и крестьянин, который не любит свой труд и свою землю, не обретет мира ни в труде, ни в земле. Деревенский люд, возвращаясь вечерами, всегда приносит в дом какую-то частичку природы — колосок на шляпе, цветок в зубах, веточку ягод — и не пользы ради, а с единственной целью — не оборвать ниточку, связующую с родными полями. Самые образные, самые поэтические обороты слышал я от темных мужиков, и ни с кем я так не любил вести разговоры, как с ними, с их женами, их детьми. Никто не сумеет сказать так, как эти крепкие мужчины, эти ладные женщины, эти ловкие дети, и мало кому дано так чувствовать, понимать и любить зыбкую прелесть мира. Исабель Гарсиа Лорка, сестра поэта, тоже выросшая в деревне, рассказывала мне в Гранаде, как однажды вечером, когда птицы то ли отпевают, то ли окликают солнце, на берегу ей повстречался крестьянин. Пустела в закатном мареве долина, пели птицы на крайнем из тополей, и песня звучала дикой переливчатой радостью, как звучит она, когда остается одна в вышине, с каждой минутой все выше и единственней. Встречный вскинул голову и, отвечая своим молчаливым мыслям, усмехнулся: «Словно все, что ни делается, — все ради них».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: