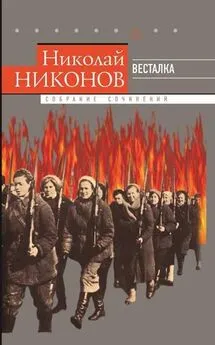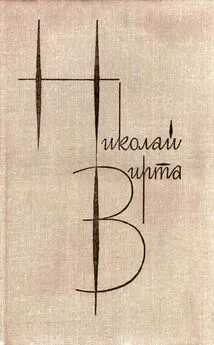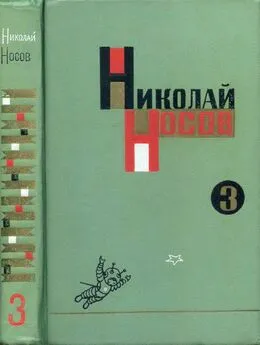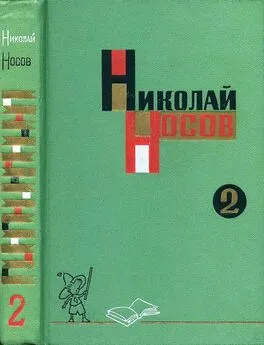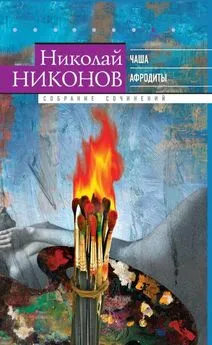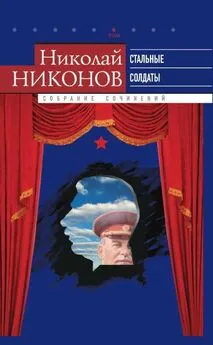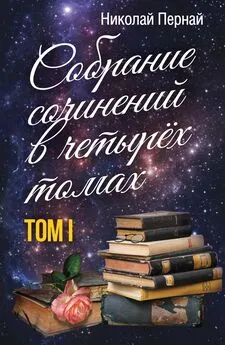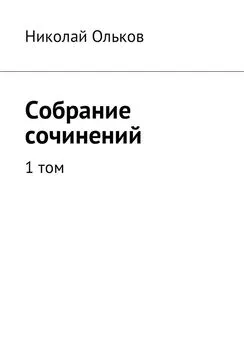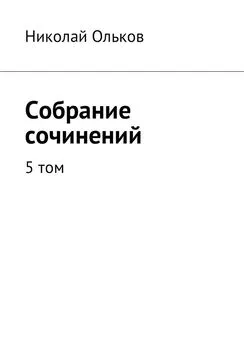Николай Никонов - Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка
- Название:Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2007
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Никонов - Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка краткое содержание
Впервые опубликована в журнале «Урал»
Роман включен автором в цикл «»Ледниковый период», куда вошли также романы «Чаша Афродиты» и «Стальные солдаты».
Собрание сочинений в 9 т. Т. 7. Весталка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Будь оно все проклято… Опять на фронт. Вот беда-то. — И, уловив мой взгляд, его выражение и осуждение, добавила: — Эх ты, му-у-ра… Чего пялишься, дурочка? Да я этого фронта наелась — во… На всю жизнь..
Полгода моталась, маялась… В окружении под Смоленском была, под Вязьмой. Едва вырвалась… Раненых на себе тащили… У нас командиры — стрелялись. Зелень..
— Как же ты… вы… здесь? — пробормотала я, стесняясь, что Лобаева точно угадала мои мысли.
— А меня — ранило, — усмехаясь своими губищами, повела бровью Зина. — В это место. — Бесстыдно показала куда. И, оглядывая меня глазами плачущей, смеющейся ли овцы, добавила: — Погоди, испытаешь и ты… Там нашего брата любят. Особенно таких булочек-дурочек… Не отобьешься..
Не закончив, толкнула недопитую кружку, лихо пошла по коридору, виляя бедрами. А я подумала: чем она напоминает нашу соседку, эвакуированную пожарницу?
IX
Провожать к эшелону никого не пускали. Только на площади, у старого кирпичного вокзала с фигурными башенками прошлого века, что с мирным недоумением глядел стрельчатыми окнами, мельтешила, сходясь-распадаясь на двойки, тройки, пятерки, густая толпа. Кто-то противно, не в лад и по-пьяному завираясь, пилил-рявкал на сиплой, трезвучной гармошке, кто-то из женщин кликушно кричал новые частушки про Гитлера, про фрицев — как им худо было под Москвой. Рыжий, гололицый, скуластый и будто безглазый мужик — говорили, наш повар — ходил вприпляс, наговаривал:
Эх, у меня матани нет,
Чо же я поделаю?
Пойду во двор, возьму топор,
Из полена сделаю..
Перед ним тряслась сестра в короткой шинельке. Но частушки сами собой глохли в шуме говора, рыданий-причитаний, ненужных наказов, слез и деланного, из последних сил, смеха. Мать все прижимала меня к себе, боялась отпустить, гладила шинель, треугольнички в петлицах, приникала горестным незнакомо-старым лицом, отрываясь, глядела ничего не видящим взглядом, а я думала — вот оно, худшее, о чем и не представлялось, — прощание с последним родным человеком, и, как ни крепилась, не могла выдержать этой мысли — слезы текли, губы кривились не моей волей. Кое-как совладала с собой. Да еще, спасибо, подошла Валя. Ее провожали отец, мать, бабушка, брат и сестра, какой-то еще черноглазый молодец в шинели с двумя синими кубиками. Мелькнуло поодаль бледное лицо Виктора Павловича. Провожал Валю издали, оставался дома, инвалид, ему ничего не грозило.
Спасала меня и шинель, берет со звездочкой, вся моя новая армейская форма, все еще пахнущая военным складом и мужеством, спасали сапоги, хоть были не впору, размера на два больше. Может быть, в этой форме я казалась и матери взрослее, неуязвимее (вечное заблуждение всех — и кто носит шинель, и кто смотрит со стороны). Да и кругом были такие же, как я, в шинелях, в беретах, в ушанках, в сапогах: девчонки, женщины, военврачи, всех кто-нибудь провожал, все пытались держаться, повторяли почти одно.
— Береги себя, — говорила мать. — Береги… Ты у меня одна… Понимаешь? Одна… Береги себя… А мне пиши… Хоть два слова. Жива-здорова… Все время пиши. Без писем я… Понимаешь? А главное, береги себя… Береги…
Моя мать не умела выносить невзгоды. Не так я сказала… Лучше бы, возможно, не хотела выносить. И опять не так… Ну — жгла себя, таяла… Она была нежного, домашнего воспитания. Красавица. Единственная дочь родителей, которые рано ушли, отдав ее, как драгоценность, моему отцу. И он берег ее, холил, как мог. Они жили бы долго и счастливо, если бы не эта война. И вместе с ними так же долго и счастливо жила бы и я… Да что об этом мечтать… Теперь мать оставалась одна. И я не знала даже, как она выживет без меня. Все продано в нашей квартире. Все ушло на рынок за хлеб. Кто теперь принесет ей хоть тот же мутный госпитальный суп, кто станет водиться — случись припадок..
Прощаться долго нам не дали, и это к лучшему. На войну, наверное, надо уходить как можно проще, не травить душу себе, никому, может, вообще так надо уходить… Либо уж обстоятельно, по-крестьянски, как пошел, рассказывали, мой дед, не вернувшийся с первой большой войны. Он обо всем позаботился, обо всем распорядился, все приказал, даже вещи свои сказал кому отдать, если не придет. От деда лежали тяжелые серебряные часы с крышками да была еще большая старая шуба, на которой играла я в раннем младенчестве: шуба пахла табаком, овчиной, нафталином — дальней далью прошедшего времени, и запах этот как-то соединялся с запахом и видом старинных твердых фотографий с орлами — медалями на оборотной стороне. На коричневых в желтизну карточках неведомый дед то молодецки опирался на саблю — был в бескозырке, с кокардой, — то сидел в кругу семьи, с дородной круглоглазой женщиной — опиралась ему на плечо, — моей неведомой бабушкой (такой ее просто не могла представить, а помнила старушкой, сухонькой, согбенной и маленькой) с тоже круглоглазыми девочками и мальчиками, один из которых был мой отец.
Зачем все это приходило, когда мы грузились в вагоны знакомого нам состава, — ведь два дня я работала здесь до полуночи, таскали оборудование, снаряжение, продовольствие, кое-как приспосабливали к дороге битый войной товарный вагон, темный, сквозящий дырами в дощатых боках и железной крыше, пропахший сеном, навозом, конской мочой и солдатскими портянками. В вагоне до нас уже кто-то сделал нары, была коновязь — жердь, изгрызенная лошадьми, лежалая солома, которой мы набили наматрацники, кое-как вычистили, отскребли пол, втащили большой ящик вместо стола, сколотили лесенку, потому что забираться сюда в юбках было хоть плачь или уж задирайся до пояса… В таких же вагонах размещался пищеблок, младший персонал. Валя попала в комсоставский пассажирский вагон, их было два, для военврачей и командования госпиталя, а еще в составе было три белых специальных вагона с красными крестами, их называли кригеровскими; в одном из них размещалась операционная. Я никогда не ездила в товарных вагонах, и поначалу он мне даже понравился — свободно, просторно, светло, по крайней мере в центральной части, когда откачена дверь, можно стоять в ней, надежно опираясь на балку, вдвинутою в скобы поперек входа. Погрузились мы быстро, втащили лесенку, но эшелон еще долго стоял — ждали паровоз. Дважды он зачем-то прокатил мимо — длинный, матово-черный и запыленный, как бы донельзя усталый. ФД — Феликс Дзержинский. В окошечке и в дверях кабины копченые лица машинистов казались частями этой вздыхающей, отпыхивающейся живой машины, которая будто знала и горевала по-своему, что вот, мол, опять, никуда не денешься, не отдохнешь, надо везти этих людей на войну.
Старший среди нас — военфельдшер Вера Федоровна. Ей, наверное, всего лет тридцать пять, но нам и в госпитале казалась она пожилой, озабоченной женщиной, а здесь и подавно, чуть не старухой. Остальные — девочки моего возраста и словно бы еще моложе да разбитная сестра-фронтовичка Зина Лобаева, она тоже попала в наш вагон. Девочки только что с курсов РОКК, из училища, их призвали и включили в наш эшелон, и они, даже по сравнению со мной, вовсе не имели и того госпитального опыта войны, какой был у меня, казались напуганными, обо всем спрашивали, обращались ко мне как к старшей, и я поневоле осваивалась с новым своим положением и званием. Фамилии девочек были Вершинина, Филатова, Платонова, Кручинина, Голякова, Семенчук, Слепухина, и еще две-три уже не помню… Все они небойкие, уревелись на проводах, хоть в вагоне уже успокоились, даже смеялись, шутили. Задумчиво-неразговорчивой оставалась одна Слепухина, странная девушка, похожая на татарку, черноволосая, с худым кругло-скулым лицом, с устремленными куда-то внутрь, испуганными глазами. От девчонок, еще на погрузке, я узнала: Слепухина ехала не то от мужа, не то от жениха, который остался, — работал по брони на военном заводе или еще почему-то, что она очень переживает и вообще за ней надо присматривать. Она и в училище раз такое отмочила: выпила ртуть из нескольких градусников — хотела отравиться, едва спасли. Нет-нет я и взглядывала на эту Слепухину, которая, словно не замечая никого, ходила по вагону, как ходят пойманные, посаженные в клетку животные, от стены к стене, или, присаживаясь на нары, замирала, как задумчивая большая птица. «Непутевая какая-то», — отметила я про себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: