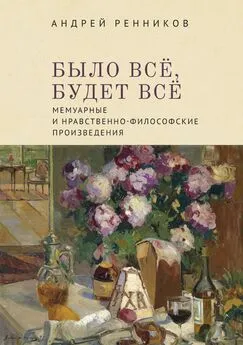Михаил Талалай - Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
- Название:Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-153-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Талалай - Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения краткое содержание
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Ах, да, – спохватывался Розанов. – Совершенно верно. Но ничего: я и для вас напишу.
А иногда наоборот. Придет в «Русский вестник», даст статью, а ему отвечают:
– Вы ошиблись, Василий Васильевич. Это для либералов.
В сущности, определенного стройного мировоззрения у Розанова не было. Было только чуткое иррациональное мироощущение. Его книга «О понимании», логически излагавшая план возможного познания мира путем изучения первоначального строения ума, не внесла ничего значительного в историю классической гносеологии. Но отдельные его прорывы в суть бытия бывали иногда гениальны. Он не умел осаждать тайну мира систематически, упорно, хладнокровно, как это делали прославленные западные философы при помощи дальнобойных орудий своего тяжеловесного мышления; но ему замечательно удавались темпераментные набеги на истину, в результате чего брал он в плен и глубокие мысли и блестящие парадоксы. Его скепсис проявлялся не столько в сомнениях о возможности познания, сколько в сомнениях о ценности рассудочных и научных методов проникновения в загадки мира.
«Что такое наши университеты и науки сравнительно с Церковью? – спрашивает он. – Науки, университеты, студенты – только трава, цветочки: пройдет серп и скосит».
И органическое недоверие Розанова к систематическому логическому мышлению особенно ясно сказывалось в его афористической манере изложения мыслей. Он эти мысли не развивал путем связного ряда силлогизмов, а бросал просто в виде образов и неразработанных утверждений, чтобы читатель сам их не столько понял, сколько прочувствовал.
Поэтому теоретики социальной жизни, партийные люди и разного рода утописты были чужды Розанову и вызывали в нем не то страх, не то отвращение. Все эти доктринеры с «общественным интересом», как он выражался, казались ему угасшими людьми, живыми покойниками.
Из всех загадок бытия внимание Розанова особенно привлекал вопрос сексуальный. Он много работ посвятил ему, часто к нему возвращался в отдельных статьях. Но стройного исследования и общей системы тут тоже не дал, как и в других областях своего философствования. К тайне пола подходил он мистически, находя в ней нечто от божественной сущности мира; и потому особенно подчеркивал присутствие этого элемента в различных религиях.
Дружественное отношение Василия Васильевича мне очень льстило. Тем более, что сравнительно с ним я был тогда еще молодым человеком. Мне иногда даже казалось, что было бы заманчиво сделаться его учеником. После разочарования в умствованиях классической западной философии меня тянуло к этой чисто-русской мудрости, основанной не на определенном мировоззрении, а на интуитивном прозрении.
Но как быть учеником того, который ничему не учил, ничего не проповедовал, а только метался вокруг вечной правды, чувствуя, что всецело овладеть ею невозможно? Розанов сам признавался, что «душа моя – полная путаница».
От него можно было не научиться мудрости, а заразиться. И эту «заразу» я радостно воспринимал, несмотря на легкомыслие молодости.
Как-то, говоря о свойствах нашего национального характера, Василий Васильевич писал:
«Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком…
И все понятно.
И не надо никаких слов.
Вот чего нельзя с иностранцем».
Именно этот «острый глазок» взаимного созвучия в мироощущении и связывал Розанова со своими почитателями. На все окружающее Розанов тоже смотрел острым глазком. Смотрел не как человек, надолго обосновавшийся на нашей планете, а как проезжий наблюдатель, как любопытствующий странник. И хотя жил он оседло, и жил как все, часто вникая в мелочи жизни, однако все это только скользило по нем. Он был немного блаженным и чуть-чуть даже юродивым в глубоком смысле этого слова. А странничество было основным свойством его мысли и чувства. Отсюда – его некоторая чудаковатость, детская наивность, неумение ориентироваться в простых житейских вопросах.
До некоторой степени напоминал он бродягу-философа «старчика» Григория Сковороду 118 118 Григорий Савич Сковорода (1722-1794) – странствующий философ, поэт.
. И смело мог выбрать для себя эпитафию, которую Сковорода составил для своей будущей надгробной плиты: «Мир ловил меня, но не поймал».
В редакции «Нового Времени» у нас с Розановым была общая комната, где находилась часть отдела внутренних известий; и мне приходилось видеть, как он работает. Писал Василий Васильевич свои статьи нервно, иногда в каком-то странном возбуждении. Он не садился за стол так, как все, не усаживался плотно на стул, не раскладывал спокойно листы бумаги и другие письменные принадлежности. Стул ставил куда попало, иногда у угла стола; садился на кончик его и подергивал ногой все время, пока писал. А иногда, вдруг, вскакивал, ходил по комнате, не обращая ни на кого внимания, и затем порывисто возвращался к столу.
Впрочем, так нервно писал Василий Васильевич только статьи, в которые вкладывал свои любимые мысли и свой темперамент. Когда же у него бывала другая, более спокойная работа, сидел он чинно и деловито, как все. Иногда приносил с собой материалы для очередной книги и разбирался в них с видом кабинетного ученого.
Как-то раз подозвал он меня к своему столу и показал, как хорошо перерисовал в Публичной библиотеке план древнеегипетского храма. Ему это было нужно для книги о религии древнего Египта, в которой он старался показать наличие значительной доли эротического элемента.
На самом деле рисунок был сделан ужасно. Контуры храма вышли волнообразными; параллельные линии сходились под острым углом. Все напоминало детский рисунок.
– И это вы хотите вставить в свое исследование? – испуганно, но достаточно вежливо спросил я.
– Да. Клише уже заказано.
– А не лучше ли было бы, Василий Васильевич, все это начертить как следует, по линейке?
– Ты ничего не понимаешь. Так уютнее.
Над книгами Розанов работал с любовью, усердно. Но что на него наводило уныние, это – очередные рецензии на некоторые книги, присылавшиеся в редакцию для отзыва. В этой области он нередко проявлял даже обидное отношение к авторам. И не то что к начинающим, но и к имеющим громкое имя.
Как-то раз, разбирая свой ящик со старой корреспонденцией, Василий Васильевич показал мне письмо Победоносцева 119 119 Константин Петрович Победоносцев (1827-1907) – государственный деятель, правовед, писатель, обре-прокурор Святейшего Синода.
, адресованное ему касательно одной из рецензий. Победоносцев писал:
«Многоуважаемый Василий Васильевич! Я ознакомился с Вашим отзывом о книге “Социологические основы гражданского права”. Я привык к тому, что критики меня ругают. Но обычно они ругают меня за то, что я написал или сделал. Вы же перещеголяли всех этих господ: Вы выругали меня за ту книгу, которую я никогда не писал. Автор ее – приват-доцент M., а я дал вначале только несколько вступительных слов об авторе. О том, что Вы, глубокоуважаемый Василий Васильевич, обычно не читаете тех книг, о которых пишете, я хорошо знаю. Но что Вы не даете себе труда прочесть хотя бы обложку критикуемого произведения, это мне до сих пор не было известно. Примите уверение в совершенном уважении к Вашей литературной работе и к Вам. К. Победоносцев».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

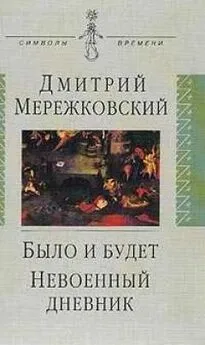

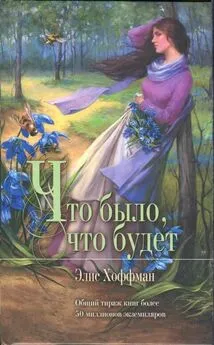
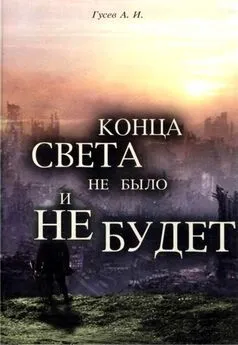
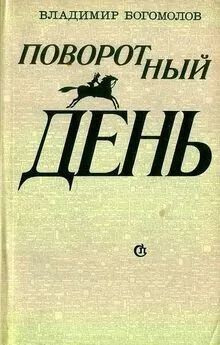


![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)