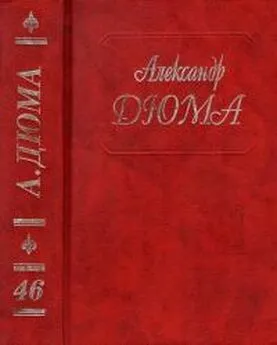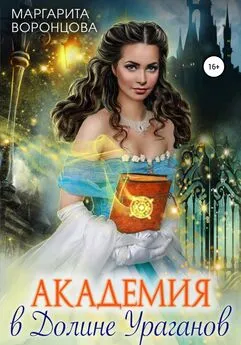Фернанда Мельчор - Время ураганов
- Название:Время ураганов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-155872-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фернанда Мельчор - Время ураганов краткое содержание
Ведьму в маленькой мексиканской деревушке уже давно знали только под этим именем, и когда банда местных мальчишек обнаружило ее тело гниющим на дне канала, это взбаламутило и без того неспокойное население. Через несколько историй разных жителей, так или иначе связанных с убийством Ведьмы, читателю предстоит погрузиться в самую пучину этого пропитанного жестокостью, насилием и болью городка. Фернанда Мельчор создала настоящий поэтический шедевр, читать который без трепета невозможно.
Книга содержит нецензурную брань.
Время ураганов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
5
Чудо, истинное чудо — мой сынок, говорила женщина в розовом халате, живое доказательство того, что Бог есть, а святой апостол Фаддей все может, все, даже и невозможное, понимаешь? И опустила глаза, и просияла улыбкой своему младенцу, сосавшему ее левую грудь: даром не пропали мои молитвы, целый год, только представь, целый год, не пропустив ни единого дня, даже когда с кровати встать не могла и чувствовала, что помираю просто от печали, даже в такие дни молилась святому Фаддею, чтобы сынок мой выжил, чтобы матка моя его удержала, чтобы не случилось с ним то же, что с другими, о которых я так заботилась, витаминами кормила, а они все равно покидали ее, и я замечала кровь, когда по нужде ходила, и плакала тогда, кровь эту даже во сне видела: снилось мне, что я в той крови тону и захлебываюсь, немудрено — после стольких лет, когда бежала я в сортир, чтобы в очередной раз узнать, что и этого ребеночка я потеряла, восемь раз такое было со мной, представь только, восемь раз за последние три года, Богом тебе клянусь, не вру. Даже и докторша уже ворчала на меня, говорила, мол, не удерживает матка твоя плод, тебе того не хватает, этого, операцию надо делать, а кто его знает, поможет ли, лучше уж не беременеть, смирись, так она мне говорила, старая крыса, у самой-то ни мужа, ни детей, уверена я, она с женщинами спит, потому что, говорит, организм твой уже изношен, не лучше ли усыновить ребенка, так она, подлюга, мне твердила, и из-за нее муж мой уже перестал надеяться, и я не сомневалась даже, что вот-вот захочет со мной развестись, и тут вот приятельницы мои, друзья кумы моей сестры, сказали: а почему ты не просила о помощи Святого Фаддея, попробуй-ка, раздобудь его образ, освяти, поставь большую сандаловую свечу и молись ему каждый божий день, молись смиренно и истово, и я тогда сказала себе: а что я теряю, почему бы в самом деле не попробовать, и, смотри, Святой Фаддей сотворил чудо и даровал мне наконец ребеночка: Анхель де Хесус Тадео — вот как мы его назовем, вознесем хвалу Господу и святому апостолу за чудо, явленное мне, ибо что же это, как не чудо, верно ведь? Чудо. Анхель де Хесус Тадео, младенец шести часов от роду, сучил кулачками в воздухе, покряхтывал, готовясь заплакать и явно страдал от жары, стоявшей в палате. И в плаче его было нечто такое, от чего у Нормы, лежавшей на соседней кровати, волосы вставали дыбом, и, не будь руки у нее прикручены к бортикам так туго, что кожа на запястьях содралась до живого мяса, она бы заткнула уши, чтобы не слышать ни этот рев, ни медовое воркование женщин. Да что там — не будь она привязана к кровати, давно сбежала бы куда глаза глядят, лишь бы подальше от этой больницы, от этого жуткого городка, сбежала бы в чем есть, то есть почти без ничего — босая и в подобии халатика, открывавшего и спину, и задницу, халатика на голое тело, на голое и воспаленное ее тело, чтобы убраться от этих женщин с их синими набрякшими подглазьями, растяжками на животе и стонами, от их хиленьких младенцев, лягушачьими ротиками вбирающих черные соски, но главное — от вони, которая стояла в душной палате, где пахло молочной сывороткой, перегорелым потом и еще чем-то, одновременно и приторным, и кисловатым, вони, которая, как казалось Норме, навеки впиталась в ее кожу и напоминала дни, проведенные взаперти в квартирке в Сьюдад-де-Валье, когда она таскала на себе по комнате брата Патрисио, ворочала его из стороны в сторону, чтобы не задохнулся, растирала ладонью его впалую грудку, чтобы согреть воздух внутри нее, и когда дыхание вырывалось у Патрисио изо рта с глухим сипением, с астматическим хрипом, Норма думала, что легкие у бедняги гниют. Бедняга, кто его просил рождаться в январе, когда в Сьюдад-де-Валье стоят такие холода, да еще в этой квартирке, где они жили тогда, в двух шагах от центральной автобусной станции — не квартирке, а комнате без перегородок, в коробке из кирпича и цемента, как раз рядом с пятиэтажным зданием, отбиравшим у нее все тепло, так что просыпались они иногда с паром изо рта, лежа впятером на единственной кровати и укрывшись поверх одеял всем, чем только можно, а сверху, возле лампы, которую не гасили всю ночь, чтобы ребенку не так холодно было, висела колыбелька Патрисио, потому что мать больше всего боялась, как бы кто во сне не навалился на него и не задавил — не заспал, как говорится. Потому что знала — трудней всего Патрисио дается выдох; Норма рассказала ей, что бедняжка всегда будто давится чем-то, будто ненароком проглотил свисток и, как безумный, молотя кулачками студеный воздух комнаты, силится извергнуть его наружу, кашляя и задыхаясь, да никак не получается, меж тем как Норма ворковала над ним, трясла за плечи, а порой в отчаянии даже совала палец в маленький ротик, надеясь нащупать и вытащить то, чем он подавился — ей это «что-то» представлялось шариком зеленоватой затвердевшей мокроты — и всегда безуспешно. Мать знала об этом — Норма ей рассказала — и оттого, наверно, не наорала на нее, не побила, не сказала, что она дрянь ничтожная, косорукая, в то утро, когда Патрисио нашли совсем синим и окостеневшим в его колыбельке над кроватью, где все они спали вповалку: мать с одного края матраса, Норма — с другого, а трое братьев — посередине, для того, мать говорила, чтобы никто, ворочаясь, не сверзился на цементный пол и не разбил себе голову, и Норма подчинялась покорно и всю ночь лежала на краешке, и даже когда по малой нужде хотелось так сильно, что снова заснуть не могла, она терпела, лежала неподвижно под одеялами, напрягала мышцы, затаивала дыхание, чтобы расслышать сквозь вздохи и посапыванье братьев, дышит ли мать, и боролась с желанием протянуть над ними руку и прикоснуться к материной груди, убедиться, что еще дышит, что сердце бьется, что она не такая холодная и окоченелая, как бедняжка Патрисио, и все терпела, терпела, одолевала желание помочиться, как и здесь, на больничной койке, в окружении распатланных женщин, плачущих младенцев, под невыносимую болтовню родственников, приходивших навестить родильниц — сжимала бедра, стискивала зубы, напрягала ноющие брюшные мускулы, чтобы удержать горячую мочу, которая все равно в конце концов ударяла тонкой, болезненной струйкой, и Норма зажмуривалась от стыда, чтобы не видеть, как появляется под нею и расплывается по простыне темное пятно, как брезгливо морщат носы соседки, как осуждающе глядят сиделки, когда наконец снизойдут до смены белья, но ее от кровати не отвязывали ни на миг, потому что таково было распоряжение социальщицы — держать ее в таком виде, пока не приедет полиция или пока Норма не признается, что натворила, ибо даже под наркозом, который дали ей перед тем, как доктор стал копошиться в ней своими железками, социальщица не вытянула из нее ничего — ни как зовут, ни сколько на самом деле лет, ни что принимала, ни кто с ней сотворил такое, ни где это происходило, и уж подавно — зачем она решилась на подобный шаг; ничего социальщица не добилась от Нормы, как ни орала на нее, кончай, мол, придуриваться, говори, как зовут этого твоего хахаля, сволочь эту, такое устроившего, кто он и где проживает, чтобы полиция смогла его задержать за его гнусное поведение — мало того, что бросил ее в больнице, но еще и смылся после этого, исчез бесследно. Чего молчишь? Тебя саму-то зло не разбирает? Не хочешь, чтоб и он тоже заплатил за это? И Норма, которая лишь совсем недавно начала сознавать, что все это случилось с ней не в кошмарном сне, а наяву, сжимала губы, мотала головой, но не произносила ни слова, даже когда сиделки раздели ее донага при всем честном народе, сидевшем в коридоре приемного покоя, даже когда доктор сунул лысую голову меж ее раздвинутых бедер и стал копаться в самом ее сокровенном нутре, которое было уже вроде как и не ее, и не только потому, что ниже пояса она вообще ничего не чувствовала, а еще и потому, что, когда сумела наконец приподнять голову и сфокусировать взгляд, увидела свой воспаленный голый лобок, совсем не похожий на ее, и никак не могла поверить, что эта плоть, желтоватая и пупырчатая, как куриные тушки на прилавке, принадлежит ей, и вот тогда-то и решили ее привязать к кровати, чтоб не дергалась, пока в ней ковыряются железками, и не повредила себе что-нибудь, однако Норма-то знала — для того чтобы не сбежала, а желание сбежать из этой комнаты не покидало ее ни на миг, хотя лежала она совершенно голая, а от сквозняка дрожала и стучала зубами, и, хотя ветерок в открытую дверь веял теплый, можно даже сказать — жаркий, ей с температурой под сорок, он казался таким же ледяным, как тот, что по ночам задувал с гор, окружавших Сьюдад-де-Валье, с их голубоватых склонов, поросших соснами и каштанами, куда четырнадцатого февраля несколько лет назад Пепе привез их всех — и Норму, и братьев, и мать, — потому что мыслимое ли дело: столько времени уже живете в Сьюдад-де-Валье, а до сих пор не видели здешних лесов, очень много теряете, как же можно лишать себя такой красоты, сама Матушка-Природа предстает вам во всем своем великолепии, так говорил тогда этот клоун. Снег! Мы увидим снег! — вопили мальчишки, поднимаясь по дорожке, петлявшей среди огромных деревьев, а Норма поначалу бежала вместе с ними, в восторге от прогулки, от города у себя под ногами, от облаков, оказавшихся так низко, так близко, от инея на земле, усыпанной хвоей и лишайником, но потом — бог знает о чем она думала, одеваясь утром, потому что забыла натянуть носки, и лесная влажная почва очень скоро вымочила ее дырявые туфли и оледенила ей ноги, ступни замерзли и окоченели, как у бедняжки Патрисио, боль сделалась нестерпимой, и Пепе пришлось прогулку прекратить и нести ее на себе вниз по склону до остановки автобуса, доставившего их в город, так что они не добрались до вершины, не смогли ни попробовать снег на ощупь, ни поиграть в снежки, ни налепить снеговиков, вроде тех, что показывают по телевизору, мальчишки разочарованно скулили, мать твердила — все из-за тебя, вечные твои фокусы, всегда что-нибудь у тебя стрясется в самый неподходящий момент, а Норма молча плакала весь обратный путь, покуда Пепе, не щадя себя, пытался шутками-прибаутками развеселить всех, как поступал всегда, когда мать злилась, но та все хмурилась и глядела осуждающе, как сиделки, когда узнали, по какой причине Норму пришлось привязать к кровати, как социальщица в тот вечер, когда Норму положили в больницу: эти соплячки подтираться толком не научились, а туда же, вот скажу доктору, чтоб вычистил тебя без наркоза, может, поумнеешь. А чем платить думаешь за это за все? Кто за тобой ходить будет? Никто тебя не навещает, никому до тебя дела нет, а ты, дура, их еще покрываешь. Как зовут того, кто сделал это? Назови его, не то сама в тюрьму сядешь за укрывательство, послушай меня, девочка, не дури, и Норма, почти теряя сознание из-за ледяного ветра, дувшего в открытую дверь из коридора, закрыла глаза, сжала губы и представила себе улыбающееся лицо Луисми, спутанную гриву его каштановых, а на солнце — почти рыжих волос, на которые прежде всего и обратила внимание, когда он подошел к ней тогда, в парке: бедный Луисми, он и знать не знал, что сделала она, что сделала Ведьма, что сделала Чабела, уговорившая ее, потому что Ведьма поначалу отказывалась наотрез, говорила, мол, нет и нет, и Чабеле пришлось умолять ее — ну, помоги же, сестрица, ну, надо же помочь бедняжке, ну, не будь же ты такой сукой, брось хоть сейчас свои капризы, ведь сколько раз ты и мне это делала, и девицам моим, ну, что тебе стоит, заплачу, сколько скажешь, но Ведьма только качала головой, не слушая Чабелу, и только увлеченно перетаскивала всякое барахло из угла в угол своей кухни, заросшей грязью, с низким потолком и закопченными стенами, вдоль которых стояли полки с пыльными склянками, а в простенках висели всякие картинки, нужные для ворожбы, и печатные образки святых с заштрихованными глазами, и картинки с грудастыми девками во всем бесстыдстве их наготы. Ну, давай же, Ведьма, соглашайся, ведь и Луисми не против, правда же, котик, он не против? — спросила она Норму. А та ответила не сразу, помедлила, но когда Чабела пнула ее под столом, энергично кивнула, Ведьма же прямо вонзила в нее такой взгляд, что Норму пробрала дрожь, однако же она справилась, сумела выдержать его, глаза не отвела, и неизвестно что прочла в ее глазах Ведьма, но только после этого, поворошив кочергой мерцавшие в очаге угли, сказала, мол, ладно, сделаю, приготовлю для Нормы свое знаменитое снадобье — густое, соленое и жгучее от всего спиртного, что вбухала она в него вместе со щепотками каких-то трав и еще какими-то порошками, которые отсыпала из замусоленных пузырьков, а потом все это перелила в склянку, склянку поставила на стол перед Нормой, рядом с огрызком гнилого яблока на тарелке с крупной солью, проткнутого насквозь сверху донизу длинным ножом и окруженного засохшими лепестками. Никаких денег Ведьма брать не захотела, а на бумажку в двести песо, которую Чабела оставила на столе, посмотрела с таким омерзением, что Норма решила — она спалит ее, как только гости, получив зелье, уйдут, что они, к несказанному своему облегчению, и сделали. А когда вышли и направились по тропинке к дому Чабелы, услышали, что из полуоткрытой двери на кухню раздался странный, одновременно и хриплый, и пронзительный голос Ведьмы, и Норма, обернувшись, поняла, хоть та уже закрыла лицо покрывалом, что обращается Ведьма к ней: выпей все до дна! Выпей все и сдержись, когда потянет на рвоту! Почувствуешь, будто оно раздирает тебе все нутро, а ты терпи! И не бойся! И тужься, тужься, что есть сил, пока не…! А потом похорони! Чабела резко и сильно дернула ее за руку, даже ногти вонзила, хоть и неглубоко. Дура старая, как будто мне это впервой, проворчала она, словно ничего не слышала, и прибавила шагу. А лучше — оставь, долетел в последний раз, но уже издали и потому еле слышный голос Ведьмы; Норма не разобрала, что еще пыталась прокричать ей колдунья: она запыхалась, потому что силилась не отставать от Чабелы и не выронить и не разбить оземь прижатую к груди склянку. Чертова старуха, продолжала ворчать Чабела, спятила вконец, пугает еще, а то я не знаю, как мутит от этого, я ведь первая заметила, что в твоем очажке пирожок печется, правда ведь? Заметила, когда ты стояла передо мной, примеряла платье, которое я тебе подарила, потому что прежнее твое не платье уже было, а рвань какая-то, помнишь, котик? Еще бы Норме было не помнить: прошло лишь три недели с того дня, как Луисми привел ее в свой дом, три недели с той ночи, которую они впервые провели вместе и почти не спали, а без конца рассказывали друг другу разные истории, безбожно привирая при этом, потому что еще были плохо знакомы друг с другом и плохо знали пока, где тут правда, а где — нет, разговаривали шепотом, лежа на этом голом матрасе в почти полной темноте — лампочка перегорела — и видели только, когда смеялись, как блестят их зубы. В ту ночь они переспали друг с другом, ну, или что-то в этом роде, отчасти потому, что Норма все время ждала, что он захочет получить плату за свое гостеприимство и полезет к ней, и боялась, что — по округлившемуся ли животу, по запаху ли изо рта — Луисми обо всем догадается, но, по счастью, он даже не поцеловал ее в ту ночь ни разу, а лишь изредка дотрагивался до нее кончиками пальцев, лаская так робко, что не всегда поймешь, его ли это были прикосновения или, быть может, привлеченная по́том их тел, влетела в полуоткрытые двери какая-то мошкара. Они мало-помалу раздевались от невыносимой жары, от горячей волны, которая — Норма чувствовала это — поднимается откуда-то изнутри, из ее чуть вздутого живота, который в конце концов выдаст ее, едва лишь Луисми проведет по нему ладонью, но он ни разу даже не попытался. Он вообще ничего не предпринимал в ту ночь, лишь неподвижно лежал рядом с ней и вздохнул, когда она, истомившись этой неопределенностью или устав ждать, решила взять инициативу на себя и принялась играть с его членом, подергивая и поглаживая его точно так же, как сколько-то лет назад, когда купала Густаво или Маноло, и забавно было смотреть, как их сосисочки, чем больше их теребить, тем больше крепнут и распрямляются. И Луисми, в точности как они, замер, пока она ласкала его, и только сдавленно заурчал, когда Норма взобралась сверху, уселась на его костлявые бедра и принялась двигаться вперед-назад, вверх-вниз, в том лихорадочном ритме, который так нравился Пепе, но Луисми вроде бы оставался к ее усилиям безразличен, по крайней мере ни разу не застонал от наслаждения, ни разу не взял ее за груди, не обхватил бедра, ничего такого не было, молчал и не шевелился, так что Норма, не видевшая в темноте его лицо, решила даже, что он уснул под ней, и, униженная до слез, выступивших в уголках глаз, слезла, вся в поту от этих бесплодных усилий, легла на матрас, повернулась спиной, уставилась на бархатистую полоску черного неба, видневшуюся над деревянным щитом, который Луисми приспособил вместо двери, и собралась уж было заснуть, как почувствовала сзади какое-то шевеление, и рука робко легла ей на голое бедро, а сухие губы прильнули к спине меж лопаток, и Норма, затрепетав, отвела руку назад, но на этот раз активность проявил он сам и, не отрывая губ от ее спины, одним толчком проник в Норму, причем с удивительной даже какой-то легкостью, если учесть, что вошел он не туда, где был в первый раз, а рядышком, в ту единственную дырочку в ее теле, которую Пепе так и не смог освоить, потому что Норме такой способ любви был гадок, и потом она всегда опасалась, что будет больно, а вот с Луисми все получилось иначе, очень даже приятно получилось, наверно, оттого, что он не наваливался на нее всей своей тяжестью или просто двигался он по-другому, входил и выходил в каком-то особенном ритме, так что вдруг она, не сдержавшись, даже застонала от наслаждения, и хоть был этот стон еле слышен, но Луисми опять замер, словно окаменел от страха, и опять пришлось ей, чтоб довести его до пика и разрядки, чтоб почувствовать, как он кончает, взять дело в свои руки и в отчаянном желании завершить процедуру раз и навсегда после нескончаемой и неистовой тряски, Норма, насадившись на него, можно сказать, до отказу, почувствовала вдруг, что Луисми опять же без единого слова положил руку ей на бедро и очень осторожно, как бы даже извиняясь, высвободил совершенно обмякшую плоть. Неизвестно, в котором часу удалось наконец ей заснуть, но когда, разбуженная резью в переполненном пузыре, она открыла глаза, был уже белый день. Попыталась разбудить Луисми, спросить у него, где тут уборная, но он не отзывался, даже когда она стала трясти его за плечо — продолжал спать, свернувшись в клубок на матрасе, и под смуглой кожей жалостно проступали позвонки. Он был такой тощий, что показался Норме даже моложе ее самой — ребра торчат, хилый отросток испуганной улиткой укрылся в поросли под впалым животом, руки тонкие, пухлые губы обхватили большой палец, который он сосал во сне. Норма села на матрасе, набросила на себя то же платье, в каком была вчера, надеясь, что от ее движений Луисми проснется, но он продолжал спать, держа палец во рту, и не проснулся, даже когда она поднялась и отодвинула деревянный щит, заменявший дверь, и вышла в патио, а там присела на корточки в углу и справила нужду. Облегчившись наконец, потрясла задом, смахивая последнюю каплю, грозившую скатиться вдоль ляжки, поднялась, опустила подол и взглянула на кирпичный дом, высившийся в другом конце двора, и удивилась, увидав, что какая-то женщина с длинными кудрявыми волосами подает ей знаки из окна. Норма оглянулась, чтобы убедиться, что, кроме нее, в патио никого и звать больше некого. Что же ты, котик, свинячишь тут, сказала женщина, чуть только Норма приблизилась. Толстые губы в ярко-красной помаде улыбались. На голые плечи падали распущенные, влажные от утренней сырости волосы, рыжевато-каштановым нимбом стоявшие вокруг сильно напудренного лица с темными трещинами в тех местах, где штукатурка осыпалась. Это, наверно, мать Луисми, сообразила Норма, вот и волосы такие же, и от стыда ее прямо бросило в жар. Женщина закурила. Уборная здесь, внутри, сказала она, выпустив первую струйку дыма поверх головы Нормы, и показала сигаретой себе за плечо. Если надо — проходи, не робей, я не кусаюсь. Норма кивнула, засмотревшись на два ряда безупречных, хоть и пожелтевших зубов, появившихся, когда открылся этот пунцовый, по-клоунски ярко накрашенный рот. Чабела меня зовут, сказала женщина. А тебя? Норма, ответила девушка, выдержав для приличия краткую паузу. Норма… повторила Чабела, Норма… Знаешь, что? Ты — вылитая Кларита, моя младшая сестренка. Я ее не видала хрен знает сколько, но ты ужас до чего похожа на нее. И, наверно, такая же поблядушка, а? Потому что пришла перепихнуться с этим сучонком, правильно я говорю, а? — она изогнула тоненькие, подрисованные черным карандашом брови и ткнула дымящейся сигаретой в сторону лачуги, где все еще спал Луисми. Норма закусила губы и залилась краской, когда Чабела, по-своему истолковав ее молчание, зашлась пронзительным смехом, который сменился криком, пролетевшим в туманном утреннем воздухе и наверняка слышным даже на трассе: Ты вляпался, сучонок! С малолеткой связался! А потом снова обратилась к Норме с ангельской, но несколько натянутой улыбкой: Нет, котик, правда, ты крепко машешь на сестренку Клариту, но, знаешь, тебе срочно надо помыться, от тебя несет тухлой рыбой, и переодеться — это твое платьице все грязное. Другого у меня нет, призналась Норма тоненьким голоском, и Чабела негодующе округлила глаза. Потом в последний раз глубоко затянулась и швырнула тлеющий окурок во двор. Поведя не без изящества плечом, она приказала Норме войти, но та замялась. Ну, давай же, что ты там телишься, крикнула женщина и скрылась. Норма обогнула дом и вошла в открытую дверь, которая вела в комнату, служившую, видно, одновременно кухней, столовой и гостиной: стены были выкрашены в зеленый цвет разных оттенков, и пахло здесь табачным дымом, печной золой и перегаром. Посреди комнаты в кресле развалился, широко расставив ноги и сложив руки на животе, человек в темных очках, с жидкими седыми усами. Он смотрел телевизор, убавив громкость до минимума. Норма потопталась на пороге, пробормотала «здрасьте», а когда торопливо проходила мимо телевизора, пригнулась, чтобы не мешать смотреть, но уже через секунду, когда сидевший вдруг открыл рот и выдал длинную и звучную руладу храпа, поняла, что он крепко спит. Норма пошла на запах сигаретного дыма и хрипловатый голос Чабелы, не замолкавшей ни на минуту, миновала короткий коридор и остановилась перед единственной открытой дверью. Это моя спаленка, сказала Чабела, нравится? И, не дожидаясь ответа, продолжала: Я сама цвета подбирала, хотела, чтоб вышло, как в доме гейши. Вот у меня тут несколько платьев, которые я не ношу, думала отдать их эскалибурским монашкам, но от этих нахалок вонючих спасибо не дождешься, так что перебьются. Норма рассматривала черно-красные стены, белые тюлевые занавески, пожелтевшие от сырости и никотина, огромную, чуть не во всю комнату кровать, на которой лежала огромная груда одежды, туфель, тюбиков с кремом и прочей косметикой, вешалки и лифчики. Ну-ка, примерь вот это, велела Чабела. На руке у нее висело платье — лайкровое, красное, в синий горошек. Да что ты, котик, там оцепенела, входи, наконец, сказано же — я не кусаюсь. Как, говоришь, тебя зовут? Норма открыла было рот для ответа, но Чабела, не давая ей вставить слово, продолжала без умолку: Наш мир — он для живых, веско припечатала она, а уши развесишь, хайло разинешь — раздавят. Потребуй, чтоб сучонок тебя приодел малость. Что ты глазками-то хлопаешь, все они одинаковые, все дармоеды, захребетники, их погонять надо все время, чтоб хоть какой-то прок от них был, и мой сучонок не лучше прочих, с ним только так и можно: или ты его в кулаке держишь, или он все деньги спустит на свою наркоту поганую и тебе на шею сядет, Кларита. Я знаю, что говорю, и его, дурня несчастного, я знаю досконально со всеми его заморочками и фортелями, да и как не знать, если я его родила, так что слушай меня и делай, что говорю: стребуй с него одежонку, и пусть денег тебе дает на расходы, чтоб не стыдно было прошвырнуться по Вилье, слушай-слушай меня: ихнего брата надо крепко держать за одно место, и чтоб дрын в постоянной работе был, тогда не потянет на сторону. Норма кивнула, но все же ей пришлось поднести ладонь ко рту, скрывая улыбку, от которой не смогла удержаться, когда Чабела на миг замолчала, и тогда слышен стал оглушительный храп человека перед телевизором. Я тебя учу, дура, а ты ржешь, гляди, не обосрись со смеху, укорила ее Чабела, но и сама заулыбалась, показывая свои крупные зеленовато-желтые зубищи. Вот что с ним стало, а ведь, пока не попал в аварию, был когда-то мужчина на все сто, на земле стоял прочно. Ты погляди, Кларита, как мне его суродовали, во что превратили — ведь просто рухлядь какая-то стал, бестолочь, пьянь, придешь с работы вся уделанная, живого места нет, он тебе кофе даже не сварит. Мне бы давно его послать подальше, а? Сменить на модель поновей, на настоящего мужика, мне ведь, сама понимаешь, есть из кого выбирать. Хоть я уже не та, что прежде, но как выйду в город, они так и вьются вокруг, да мне только пальчиком поманить — выстроятся в очередь, кулаками выяснять будут, кто достоин быть со мной и пользоваться моими милостями… Ну, ладно, Кларита, проходи, не робей. И Норма с платьем в руках зашла в глубь комнаты, слегка одурев от неумолчной болтовни и дыма, потому что Чабела курила и говорила одновременно и ни разу не кашлянула, не поперхнулась, когда с сигаретой в зубах наклонялась, подбирала раскиданное по полу, укладывала его на кровать или, наоборот, брала что-то из наваленной там груды вещей и швыряла на пол. Что присоветуешь, Кларита? Послать мне его или пожалеть, придурка колченогого? А ведь дом-то это мой, я его сама построила, своими трудами заработала, в поте лица или еще какого места, а он, паскуда, пальцем о палец не ударил, ничем не помог. Чабела вскинула руки ладонями вверх, обвела ими все вокруг: мебель, стены, шторы, и весь дом целиком, и землю, на которой он стоит, а может быть, и весь городок. Норма кусала губы, страдая от того, что ответные слова никак не шли с языка, но Чабела, по счастью, ответа не ждала и продолжала разглагольствовать. По всему по этому, котик, гляди в оба, не проворонь свое счастье, ты еще молоденькая, сможешь найти себе кого-нибудь почище моего засранца. Ты уж не серчай, что я так говорю, я ведь от души, не знаю, что он тебе наплел, чем охмурил, но уверена, ты достойна лучшей доли, потому что обе мы с тобой знаем — никогда от него толку не будет. Хочешь, дам тебе денег на автобус, вернешься к себе в деревню или откуда ты там, потому что, вот пусть мне яйца, которых у меня нет, оторвут, если ты из Ла-Матосы. Верно? И наверняка не из Вильи… Ах, господи ты боже мой, Кларита, котик мой, ну, что ты маячишь, как хрен поутру, как солдат на смотру? И сними наконец эти обноски. Только не говори, что стесняешься, потому что в конце концов нет у тебя ничего такого, чего не было бы у меня. Ну, давай-давай, снимай. И Норме пришлось стащить свое хлопчатобумажное платьице, уронить его к ногам, а потом просунуть сперва голову, а потом руки в вырез другого — полученного в подарок от матери Луисми. Оно было очень мягкое и хорошо тянулось, облегая все контуры тела. Норма взглянула на себя в зеркало, висевшее на единственной черной стене, и с ужасом убедилась, что живот в этом платье заметен, как ни в каком другом. Ах, чертовка, сказала за спиной Чабела, чего ж молчала, что беременная? И над плечом Нормы появилось в зеркале ее лицо. Пунцовые губы улыбались злорадно. А ну-ка, покажись, дай взглянуть, приказала она, и Норма, напуганная тем, что женщина подошла вплотную и говорит так властно, чуть наклонилась, чтобы взяться за подол и поднять его. Чабела, не обращая внимания на ее ноги в густом пушке и на открывшийся срам, впилась хищным взглядом в обозначившийся живот. Кончиком ядовито-зеленого ногтя провела вдоль пурпурной линии от того места, где начинался треугольник волос, до пупка. И Норма почувствовала, что ей щекотно и — гораздо отчетливей — что кружится голова и даже зубы заныли, как бывает, когда ведут железом по стеклу. Безобманная примета, сказала Чабела. Норма опустила подол, повернула голову к окну, уставилась на шеренгу пальм, качавшихся вдалеке под ветром — отчасти потому, что совестно было встречаться глазами с Чабелой, отчасти затем, чтобы не дышать дымом очередной сигареты. От Луисми? — спросила Чабела. Нет, сказала Норма. А он-то знает, что ты — с начинкой? Норма сперва пожала плечами, потом мотнула головой и повторила: Нет. И посмотрела на Чабелу в зеркало. Та разглядывала ее живот, задумчиво округляя глаза. Скрестила руки на груди, нервно стряхнула пепел куда пришлось. И наконец, выпустив целое облако дыма из уголка рта, сказала: Ну, раз так, давай ничего ему пока не скажем, ладно? Норма все смотрела на нее в зеркало. Ты вообще как — хочешь оставить? Норма почувствовала, что уши у нее горят, а потом запылали и ее пухлые щеки. Потому что, если не хочешь, есть у меня тут одна тетка, которая знает, как это дело уладить, может помочь. Она, правда, слегка полоумная, и, честно говоря, на вид страшноватая, но в глубине души — хорошая, добрая и не возьмет с нас ни гроша, вот посмотришь. Даже не представляешь, сколько раз она выручала и меня, и других девчонок с Эскалибура. Можем попросить ее, если не хочешь оставлять — или хочешь? Ты решай, котик, решай поскорей, потому что пузо у тебя уже здоровое и меньше не станет. Норма не могла смотреть Чабеле в глаза — даже в зеркале — и потому перевела взгляд на собственное тело. Не только пузо выросло, груди тоже налились и отяжелели, так что добавился размер или даже два, Норма не знала точно. Неделю назад она перестала надевать свой единственный лифчик, и, значит, в тот день, когда она удрала из дому, его на ней точно не было, да и вообще ничего у ней не было. Одно только бумажное платьице, которое Чабела, изобразив на лице гадливость, сейчас двумя пальцами подняла с полу; платьице, в котором сбежала из Сьюдад-дель-Валье, оно да еще босоножки и свитер — ну, тот-то стал явно ни к чему, едва лишь автобус спустился к побережью: стало невыносимо жарко, и Норма даже не помнила, где его забыла. Да, наверное, оставила на сиденье, когда водитель, разбудив ее, сказал — вылезай, приехали. А может, в зарослях тростника, где она спряталась, когда эти подонки из пикапа погнались за ней. На миг — благо Чабелу вдруг сразил краткий приступ немоты — ей захотелось рассказать ей все — все как есть и без утайки, но тут из патио донесся голос, звавший ее по имени. У окна возник Луисми — Луисми всклокоченный, в одних трусах и с сощуренными от полдневного солнца (или от злости?) глазами. Ты что здесь делаешь? — спросил он, когда наконец разглядел ее в полумраке комнаты. Тебе что за дело, какого хрена суешься, крикнула ему Чабела с новой сигаретой во рту. Луисми взглянул на мать так, словно хотел испепелить ее этим взглядом, плаксиво скривил губы, повернулся и побрел к той покосившейся и грозящей вот-вот рассыпаться и рухнуть лачуге, которую называл «домик». Норма решила пойти следом. Поблагодарила Чабелу за платье и бегом пересекла комнату, где в кресле перед включенным телевизором все еще спал тот человек. Не хочу, чтобы ты разговаривала с ней, были первые слова Луисми. Не хочу, чтобы ты разговаривала с ней и даже заходила в этот дом, поняла? Он не повысил голос, но так сильно стиснул ей руку, что на коже следы остались. Хочешь писать — иди вон туда, продолжал он, но я не желаю, чтобы ты ходила к ней, не хочу, чтобы ты стала одной из ее девок, поняла? Норма сказала, что поняла, и даже попросила у него прощенья, хоть и сама не знала, за что, но в последующие дни, пока Луисми похрапывал на своем матрасе, она — иногда уже под вечер, когда жестяная крыша, раскаляясь, превращала это жилище в адское пекло и не было больше мочи выносить это, — потихоньку выползала оттуда и прокрадывалась в кирпичный дом на другом конце участка, на кухню Чабелы. Дверь всегда была открыта, и Норма входила, варила кофе, взбивала яйца, готовила пережаренные бобы, или рис со спелыми бананами, или чилакилес [16] Чилакилес — треугольные кусочки кукурузной лепешки, вначале обжаренные, потом тушенные в остром соусе. Соус может быть зеленым или красным в зависимости от перцев, из которых он был сделан. Обычно подается на завтрак, часто наутро после затянувшиейся вечеринки, потому что считается, что он лечит похмелье.
, смотря по тому, что находила в кладовой, успевая раньше, чем проснется Мунра, муж Чабелы. Тут и сама она возвращалась с работы, входила в дом, стуча каблучками — волосы всклокочены, глаза налиты кровью от недосыпа и сигаретного дыма — и при виде накрытого стола расплывалась в довольной улыбке: Кларита, душа моя, да ты хозяюшка почище, чем я, как красиво-то все выглядит, какая прекрасная яичница, почему, спрашивается, ты не моя дочка, ты куда лучше этого засранца, а потом, когда, поев и выкурив последнюю сигарету, она уходила в спальню, где в ногах кровати на полную мощность крутился вентилятор, Норма с тарелкой в руках пересекала патио, будила Луисми и заставляла его поесть. Он был такой тощий, что Норма почти могла обхватить пальцами его руку выше локтя; такой тощий, что все ребра наружу, ему для этого даже не надо было задерживать дыхание. Тощий и, по правде говоря, страшненький — прыщавый, кривозубый, с приплюснутым негритянским носом, с жесткими курчавыми волосами, как вроде бы у всех жителей этой Ла-Матосы. Может быть, потому и переполняла Норму нежность, когда удавалось угодить ему — когда в ответ на какую-нибудь ее глупость глаза его радостно вспыхивали, он улыбался и словно сбрасывал с себя бремя печали, которое вечно таскал у себя на горбу, и на краткий миг становился похож на того паренька, что подошел к ней в парке Вильи, где она плакала на скамейке, потому что очень хотела есть и пить и денег совсем не осталось, и шофер автобуса, привезший ее из Сьюдад-де-Валье, внезапно разбудил ее и высадил на какой-то автозаправке, в чистом, можно сказать, поле, посреди бесконечных километров тростника, и еще руки и лицо обгорели на солнце, а распухшие ноги как огнем жгло, потому что она очень долго шла от заправки до центра города, и когда Луисми подошел и спросил, чего она плачет, Норма уже почти решилась пересечь улицу, зайти в маленький отель напротив парка — «Отель Марбелья» написано было у него на вывеске красными, почти как кровь, буквами, — а там умолить портье, чтоб позволил ей один разочек позвонить по телефону, и тогда бы она связалась с матерью в Сьюдад-де-Валье и сказала, где она и почему сбежала из дому, все как есть бы рассказала, и мать бы, конечно, наорала на нее и трубку бросила, и ничего другого не оставалось бы, как возвращаться на трассу и ловить попутку до Пуэрто, чтобы все же выполнить свой первоначальный план. Конечно, если повезет, может, даже и не придется ехать до самого Пуэрто. Может быть, побережье на самом деле оказалось бы не так далеко, может быть, и поближе нашелся бы какой-нибудь утес, с которого можно было бы броситься в море. В довершение бед эти парни из фургона, клеившиеся к ней всю дорогу до города, показались на другом конце аллеи, и Норма уж готова была вскочить со скамейки и бегом побежать в отель, но тут один из этих, паренек с львиной гривой, заморыш, не сводивший с нее глаз, покуда приятели его хохотали и курили марихуану на дальних скамейках парка, подошел к ней с улыбкой, сел рядом, спросил, что случилось, почему она плачет. Норма поглядела ему в глаза и увидела, что они у него — черные-пречерные и нежные, опушенные длиннейшими ресницами, и это придает ему мечтательный вид и заставляет забыть, как он нехорош в остальном — с прыщами на щеках, с приплюснутым носом и толстыми губами, и ей не хватило духу ни соврать, ни правду сказать, а потому она выбрала нечто среднее: сказала — потому что очень хочет есть и пить, и в кармане у нее ни единого песо, а еще потому, что натворила такое, что домой вернуться не может. И не сказала, что до сегодняшнего дня, пока водитель не высадил ее на обочине — деньги-то кончились, — намеревалась она попасть в Пуэрто: помнила, как когда-то была там с матерью, давным-давно, в детстве еще, никого из братьев еще на свете не было, а ей шел не то третий, не то четвертый год, а-а, нет, мать вроде бы уже носила Маноло, о чем Норма не имела ни малейшего понятия. Такого, чтоб с матерью вдвоем и никого больше, уж не бывало в ее жизни, а тогда она смотрела на воды Залива из палатки, купалась каждый день в теплом море, впервые попробовала жареную мохарру [17] Мохарра — вид небольших лучеперых рыб.
и пирожки с крабами, показавшиеся ей восхитительными, не сказала и о том, что собиралась сделать, попав в Пуэрто — пробежать по тем самым пляжам, где была с матерью, до утеса, высившегося на юге, взобраться на него, дойти до самого верха — и броситься в беспокойную темную воду, чтобы разом покончить со всем — и с этой жизнью, и с собой, и с тем, что росло в ее утробе. Ничего она ему не рассказала, разве что очень хочет есть и пить и почти помирает от усталости и от страха, потому что никого в этом городе не знает и вдобавок какие-то парни в пикапе преследовали ее, когда она шла к центру Вильи, так что ей пришлось свернуть с обочины шоссе и спрятаться в зарослях тростника, а парни звали ее, посвистывая, как собаке, пощелкивая языком, а тот, что сидел за рулем — белобрысый такой, в темных очках и в ковбойской шляпе, — перекрывая гремевшую в машине музыку, я притворюсь, что не болит душа , велел Норме дурака не валять и лезть в машину , что без тебя я жить сумею и дышать [18] Просто мужчина (Un hombre normal) — песня венесуэльского певца Рикардо Монтанера, в Мексике ее исполнял мексиканский певец и композитор Эспиноса Пас.
, однако она перепугалась, бросилась в заросли и притаилась там, пока парни, которым надоело ее искать, не плюнули и не отвалили, а сейчас эти же самые парни, простонала жалобно Норма, припарковались у другого выхода из парка, у забегаловки возле церкви, и пальцем показала на черный пикап, но тут Луисми, приоткрыв в нервной улыбке свои кривые зубы, схватил ее за руку, сжал в своих и прошептал, чтоб не показывала, чтоб никогда ни за что не показывала на них, и молодец она, что сумела удрать, ведь все знают, что белобрысый — наркоторговец по имени Куко Баррабас, известный тем, что похищает девушек и увечит их, а потом, потупившись, дрожащим голосом и явно стыдясь, признался, что деньгами помочь ей не может — у самого нет, но если она согласна подождать немного, он чего-нибудь сообразит, и они смогут поесть сэндвичей в закусочной напротив парка, а потом, если Норма согласится, она переночует у него, только вот живет он не в самой Вилье, а в Ла-Матосе, до нее тринадцать с половиной километров, но, конечно, если она согласится, потому что больше ему нечего ей предложить, чтобы не портила такие прекрасные глаза слезами, но это, разумеется, если она, ну, захочет, а нет — так и говорить не о чем… Но только пусть пообещает, что ни за что на свете не сядет в пикап к этому Куко, потому что все знают, что эта сволочь отпетая, пробы ставить негде, делает с девушками ужасные вещи, он сейчас не хочет говорить об этом, но одно ей надо запомнить крепко-накрепко — ни за что на свете, даже ради спасения души, нельзя садиться к нему в машину, и помощи у полиции просить тоже нельзя, потому что мрази эти и те работают на одного хозяина, да и вообще мало чем друг от друга отличаются. И Норма со слезами благодарности на глазах, чувствуя, как першит в пересохшем от жажды горле, пообещала, что так все и сделает и что подождет его, а Луисми тогда отправился добывать деньги, а она осталась на лавочке, сжав губы, сложив руки на коленях, а глаза полузакрыв, словно молилась, хотя на самом деле старалась не слушать внутренний голос, назойливо твердивший, что только полная дура поверит человеку, которого прежде знать не знала, в глаза не видела, который наверняка захочет попользоваться ею, улестить лживыми посулами и красивыми словами, потому что все они козлы, разве нет? Много, мать их так, чего обещают, да ничего не выполняют. Однако Луисми выполнил, он доказал, что внутренний голос ошибся, Луисми вернулся, хоть и через два часа, когда в парке было уже темно и никого не осталось, кроме курильщиков марихуаны кое-где на лавочках, вернулся, показал раздобытые деньги и повел Норму сначала в закусочную напротив, а потом, взявшись за руки — по кривым улочкам этого города, пыльным и безмолвным улочкам, которые патрулировались нарядами бродячих собак, взиравших на парочку недоверчиво. Луисми и Норма прошли огромный манговый сад, где на ветвях густо висели еще зеленые плоды, а потом — висячий мост через реку, сейчас, в наступившей темноте уже невидимую, и вступили на грунтовую дорогу, уходившую в глубь шелестящих под ветром лугов. Тьма к этому времени сгустилась настолько, что Норма не видела даже, куда ставит ногу, и непонятно было, как Луисми различает что-нибудь в этом мраке; дорога шла то вверх, то вниз, делалась то шире, то уже, и, казалось, вот оборвется, и оба они кувырком полетят на дно глубокого оврага, а потому Норма крепко сжимала руку Луисми и через каждые несколько метров просила идти помедленней, а тот, когда ступили на скотопригон, гудевший от насекомых, обнял ее за плечи и принялся что-то негромко напевать. Голос у него был приятный, вполне уже мужской, хоть во всем прочем выглядел он еще совсем мальчишкой, и от песенки его, звучавшей в этой отвратительной тьме, готовой, кажется, вот-вот поглотить их, успокаивались натянутые нервы Нормы, и легче становилось ее израненным, покрытым волдырями ногам, и прояснялось в голове, где все путалось и мешалось и прежний голос твердил без умолку, что надо от спутника отделаться, вернуться на трассу, прийти в Пуэрто и с крутого скалистого берега прыгнуть в воду, разбиться вдребезги и покончить со всем этим. И вот, хоть и очень не скоро, дорога, с обеих сторон окаймленная буйными зарослями сорной травы, наконец уперлась во что-то вроде поселка, где не было ни улиц, ни скверов, ни церквей, ничего, кроме кучки домов в печальном свете фонарей. Через низину дошли до небольшого кирпичного дома, где над крыльцом лила скудный свет голая лампочка. Но Луисми вместо того, чтобы постучать в дверь или просто войти, повел девушку куда-то в глубь участка, к деревянной лачужке, которую, как он похвастал, построил своими руками, и усталой сверх меры Норме это убежище показалось райским местом, и она, не дожидаясь приглашения, тут же растянулась на матрасе и шепотом начала свою историю, не всю, конечно, а то лишь, что не так стыдно было рассказать, а он, притулившись рядом, слушал и ни разу не попытался прикоснуться к ней — разве что к руке или к щеке — и не приказал лечь на спину и ноги раздвинуть или стать на колени и отсосать, не в пример Пепе, который просил этого всякий раз, как они оказывались в постели. Возьми-ка в рот, говорил он, теперь пососи яички, сильней, сильней, девочка, глубже бери, глубже, вот так, никогда не затошнит, если тебе это нравится, а тебе ведь нравится, а Норме это нисколечко не нравилось, но он повторял это на все лады, и она ни разу ему не возразила. Потому что поначалу он и вправду ей нравился, поначалу она даже считала его красавчиком, поначалу она даже обрадовалась, когда мать привела его в дом, сказала, вот — теперь с ними будет жить, будет отчимом Норме и ее братьям, и поначалу дела пошли лучше, и мелкота вела себя потише, и мать перестала кричать, что хочет помереть, потому что никому не нужна, перестала и сама запираться в сортире, и их запирать в доме по ночам, как раньше, когда уходила и где-то напивалась. Норма не готова была рассказывать Луисми о Пепе, ей даже и думать о нем не хотелось, потому что узнал бы Луисми, что с ней на самом деле случилось, понял бы, какая же она мерзкая тварь, и помогать ей больше не стал, и выгнал бы ее вон, назад, во тьму, а потому всего лишь пожаловалась, что Сьюдад-де-Вилья — уродский, холодный и печальный город, и люди там живут под стать ему — мать, муж ее и выводок надоедливых братьев, от которых никому в доме жизни нет, а мать из-за них пилит ее. Сплела даже историю о том, что у нее и возлюбленный есть — паренек из той же школы, только на два года старше, очень красивый паренек, длинноволосый, в рваных джинсах, но семейство его против было и во что бы то ни стало хотело их разлучить: несла, словом, что в голову взбредет, лишь бы только не признаваться Луисми, что на самом деле единственный мужчина, с которым она поцеловалась, был Пепе, ее отчим, материн муж, ей тогда было двенадцать, а ему — двадцать девять: укрывшись одним одеялом, они смотрели кино какое-то по телевизору, и Пепе начал ее подкалывать, что вот, мол, ни с кем еще не целовалась, и Норма тогда так просто шутки ради, ну, дурь нашла, взяла его обеими руками за щеки и поцеловала, что называется, полным ртом, влажно и звучно, обслюнявив Пепе губы и усы, которые он отращивал старательно, но безуспешно, и он отметил это событие громким хохотом и принялся щекотать ее, и на шум сбежались братья. А Пепе любил дразнить ее, подшучивать над ней: положит, бывало, руку ладонью вверх на тот стул, куда она собиралась сесть, и ущипнет, и прикинется, будто это не он, и все это было забавно и весело — вот именно что «было», было поначалу, потому что такое внимание Норме льстило — Пепе непременно усаживался рядом, когда показывали мультфильмы, и обнимал ее за плечи, и поглаживал по спине, по волосам, но только когда мать была на своей фабрике, а братья во дворе играли с другими мальчишками, а когда смотрели телевизор, всегда укрывался одеялом, чтоб не видно было, что выделывают под ним его руки, как скользят его пальцы по коже Нормы, по всем изгибам ее тела, даруя ласку, которую никогда прежде не получала она ни от кого — даже от матери, даже в хорошие времена, когда они были на свете только вдвоем, без никого больше, и Норме не надо было ни у кого оспаривать ее внимание и нежность. Щекотка, от которой на самом деле становится не щекотно, а как-то совсем иначе, нежности, от которых бросает в дрожь, и где-то внутри становится влажно и липко — и Норма, стыдясь вздохов, которые непроизвольно вырывались у нее из груди, стонов, которые она пыталась скрыть, заглушить чем-нибудь, подавить, боясь, как бы, не дай бог, братья не услышали, мать не проведала, а Пепе — а он в такие минуты словно бы разъярялся на нее, дышал тяжело и хрипло, а глаза у него закатывались — не отпустил ее, не перестал делать то, что он делал, осознав, как ей это нравится, неотрывно пялилась в телеэкран и в смешных местах улыбалась, и делала вид, будто ничего такого не чувствует, будто ласки Пепе ей безразличны — и так шло, пока ему не надоедало, или пока он не уставал, и тогда поднимался с дивана, запирался в уборной, а когда возвращался, совал ладонь Норме под самый нос, заставляя ее вдыхать неприятный запашок мочи, а Норма тогда хохотала, потому что все опять становилось смешно и забавно, и Пепе всего лишь пошучивал с ней, и Пепе всего лишь старался приласкать ее, показать, что относится к ней нежнее, чем к остальным детям, и даже к Пепито, родившемуся несколько месяцев назад. А по ночам, когда весь дом вроде бы засыпал, Норма навостряла уши, старалась разобрать, о чем говорят Пепе с матерью — особенно когда речь заходила о ней, о том, как мать беспокоится, что больно уж быстро она входит в пору и расцветает, а в последнее время странная какая-то стала, на себя непохожая, и как же ее бесит, что Пепе чересчур внимателен к падчерице, а он в ответ просил чушь не молоть, а понять, что единственная его цель — дать бедной девочке то, чем она обделена, потому что она отцовской ласки никогда не знавала, так что вполне понятно, что она малость сбита с толку этой его искренней и совершенно невинной нежностью, а если немного увлечена им, ну, слушай, это в порядке вещей, возраст такой, неймется ей, гормоны играют, чувства пробуждаются, она небось навоображала себе уже, что я ее люблю не по-отцовски, она ведь ребенок совсем и не знает, как справиться с томлением со своим, с глупым своим сердечком, что говорить, язык был у этого Пепе хорошо подвешен, не скажешь, что он и начальной школы не окончил, порой казалось, будто изучал право или там журналистику и даже диплом получил, потому что о чем ни спросишь его, он все знал, и употреблял разные мудреные слова, так что ему не составляло труда заболтать мать, слушавшую его с открытым ртом, а утром, прежде чем уйти на работу и оставить на попечение Нормы братьев, которых надо отвести в школу, а потом обед сготовить, заводившую свою привычную песню: Норма, ты уже большая, ты уже не девочка, а вполне взрослая барышня и должна вести себя как положено, выполнять свои обязанности по дому и подавать пример братьям. И смотри мне, если узнаю, что ты продолжаешь якшаться с Тере и другими паршивками, и боже тебя упаси заходить в бильярдную, где околачиваются старшеклассники. Ты, верно, думаешь, я не знаю, что там творится, так вот, заруби себе на носу, я все знаю — знаю, что тамошние завсегдатаи только того и ждут, чтобы руки распустить, охмурить, испортить и оставить с седьмым воскресеньем . А Норма кивала и повторяла — нет, мама, я в таких местах не бываю, я — сразу домой, иди себе спокойно и не тревожься, но, оставшись одна, задумывалась над словами матери, недоумевая, что все это значит — седьмое воскресенье, и какое к нему имеют отношение их соседки и бильярдная на углу, и особенно — это вот насчет рук, потому что как раз в это время Пепе и лаской, и почти силой стал добиваться, чтобы она дала ему засунуть в нее палец, прямо туда, внутрь, и палец, хоть и с трудом, вошел в нее весь, пусть у нее там жгло и внизу живота кололо. А еще больше озаботилась она — так, что и сна лишилась — после того, как однажды в школе заболело там, свело, как судорогой, а когда она забежала в уборную и села на унитаз, увидела, что трусы выпачканы кровью — темной и дурно пахнущей, — которая вытекала из той самой дырочки, которую на днях проковырял Пепе. Ну, вот оно наконец и случилось, подумала она в ужасе, то самое, о чем столько раз твердила мать, от чего без конца ее предостерегала: страшное седьмое воскресенье, теперь оно сломает жизнь и ей, и всей семье, вот она, кара, за то, что позволяла Пепе совать пальцы ей меж ног, и еще, конечно, за то, что и сама себя трогала там по ночам, когда никто не мог видеть ее и слышать, потому что братья рядом с ней дрыхли без задних, что называется, ног, а мать и Пепе слишком увлеченно стонали пружинами кровати, чтобы обернуться и взглянуть, чем она занята, да, трогала себя там, думая о Пепе, о его руках, о его языке. И потому решила об этой крови ничего никому не говорить — боялась, что мать догадается, что произошло, что сделала Норма и что продолжает делать Пепе, когда она уходит на работу. Боялась, что выгонят из дому: мать часто рассказывала, как поступают с безмозглыми девчонками, которые себя соблюсти не смогли и остались с седьмым воскресеньем — вышибают их коленом под зад на улицу, живи как хочешь, хоть сдохни там, и все из-за того, что допустила до себя мужчину, не сумела внушить к себе уважение, ибо каждому известно: дальше, чем женщина пустит, мужчина не дойдет. А дело-то все в том, что Норма к этому времени позволяла отчиму уже многое, даже слишком многое, и что самое скверное — хотела позволить еще больше, позволить ему сделать то, о чем он шептал ей на ухо, то, что мальчишки писали и рисовали на стенах уборных, то, что старики шипели ей вслед на улице, и то, что она хотела, чтобы с ней сделал все равно кто — Пепе ли, или мальчишки, или старики, да кто угодно, лишь бы только не думать, не ощущать внутри щемящую пустоту, от которой она плакала в подушку, пока не зазвонит материн будильник, пока первые грузовики не пропитают бензиновой гарью студеный свинцовый воздух утреннего Сьюдад-де-Валье; плакала неслышно, и плач этот шел откуда-то из самой глубины нутра, и она не понимала, почему плачет, но скрывала это от всех — стыдно, что она, в ее-то годы, ревет из-за ничего, как маленькая. Это мать без конца твердила, что она уже не маленькая, что скоро станет настоящей барышней и должна подавать пример младшим братьям, что надо стараться, чтобы все ее уважали, что надо учиться прилежно, а иначе зачем платят они с Пепе такие деньги донье Лусите из дома семь, которая нянчится с Пепито, пока Норма в школе, а они с Пепе из кожи вон лезут, чтобы она могла и дальше учиться и чего-то добиться в жизни, а главное — пусть на нее, на мать, посмотрит, учтет и не повторит ее ошибок, и потребовалось некоторое время, прежде чем Норма поняла, что она имела в виду под ошибками — да ее же, Норму с братьями, и имела, но прежде всего, конечно, ее, своего первенца, первого ребенка из пятерых, то есть шестерых, считая бедняжку Патрисио, царствие ему небесное — шесть ошибок совершила мать в бесплодных попытках удержать мужчин, которые чаще всего даже не удостаивали признать свое отцовство и для Нормы оставались чередой теней, окутывавших мать, когда под вечер, в прозрачных чулках, в туфлях на высоких каблуках, которые Норме никогда не давала даже примерить, та уходила пить. Да не будь же ты дурой, сказала она ей в тот единственный раз, когда накрыла ее у осколка зеркала на стене, когда Норма в этих туфлях мазалась ее косметикой. Зачем мужчинам видеть тебя такой? За тем, чтобы им тебя сейчас же захотелось? Что ни скажу — все как горохом об стенку. Ты не учишься на моих ошибках, Норма. Поди умойся и не дай тебе бог выйти в таком виде на улицу, не дай бог, соседки мне расскажут, что видели тебя в моих вещах. И Норма кивала и просила прощения и тайком стирала свои штанишки, испачканные кровью, чтобы мать не выгнала ее из дому, увидев, что наихудшие ее опасения сбылись, и так продолжалось до тех пор, пока она не поняла, что ошибалась — седьмое воскресенье — это не когда кровь идет, это то, что происходит в теле, когда она идти перестает. Однажды, возвращаясь из школы, Норма нашла валявшуюся на мостовой книжечку, напечатанную на грубой бумаге, книжечку в рваном картонном переплете, где было написано «Волшебные сказки для детей любого возраста», и когда открыла ее наугад, прежде всего увидела черно-белую иллюстрацию, изображавшую маленького горбатого человечка, который плакал в ужасе, а несколько ведьм с крыльями, как у летучих мышей, вонзали ему ножи в спину, и картинка эта так заворожила ее, что, не обращая внимания ни на собиравшийся дождь, ни на поздний час, ни на то, что надо было бежать домой и успеть до прихода матери обиходить братьев и выстирать белье, Норма стала читать сказку прямо там, на улице, на автобусной остановке, потому что дома на чтение времени никогда не оставалось, да если бы и было оно, как читать под вечный шум и гам, который устраивали братья, под телевизор, под крик матери, под дурацкие шуточки Пепе и с той прорвой дел, которые надо было переделать, после того, как отскребешь кастрюли от остатков еды, собственноручно приготовленной в полдень, перед школой; и потому, надвинув на голову капюшон куртки, а ноги подобрав под подол юбки, она погрузилась в чтение сказки про двух горбатых кумовьев — так она называлась, — где рассказывалось, как один из них заблудился в лесу недалеко от дома, в темном и жутком лесу, где, по слухам, собирались творить свои темные дела ведьмы, и горбун так испугался, что не смог найти дорогу домой и блуждал в сумерках, пока не стемнело окончательно, но тут увидел огонь, подумал, что это чей-то лагерь или бивак, побежал туда в полной уверенности, что спасен, и каково же было его изумление, когда понял, что попал на шабаш ведьм — жуткого вида старух с когтистыми лапами вместо рук, с крыльями, как у летучих мышей, за спиной, — которые мрачно плясали вокруг огромного костра, распевая: понедельник, вторник, среда, посмотри — это будет три, понедельник, �Читать дальше
Интервал:
Закладка:




![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
![Алекс Белл - Музыка и зло в городе ураганов [litres]](/books/1080642/aleks-bell-muzyka-i-zlo-v-gorode-uraganov-litres.webp)