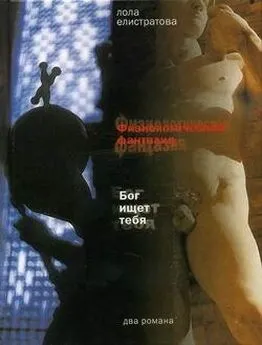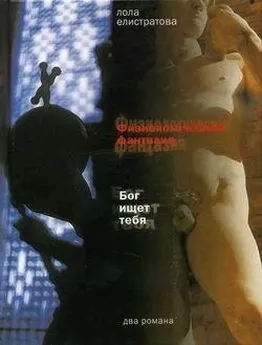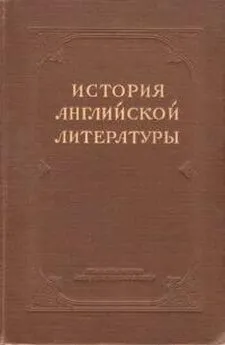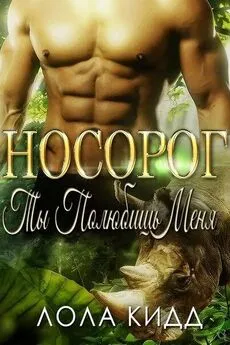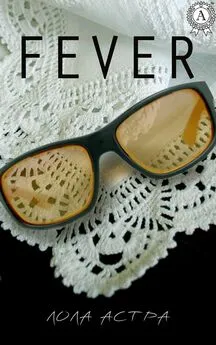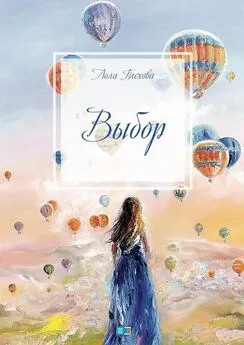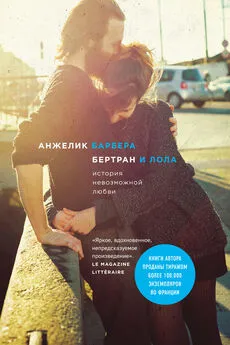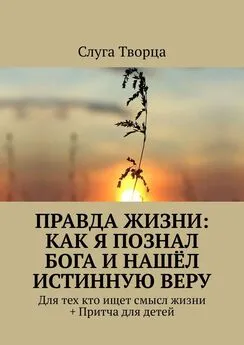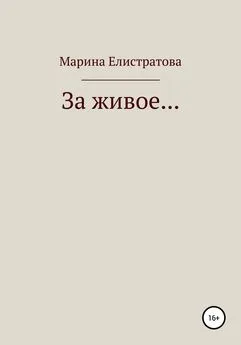Лола Елистратова - Бог ищет тебя
- Название:Бог ищет тебя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2007
- Город:М.
- ISBN:978-5-9691-0251-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лола Елистратова - Бог ищет тебя краткое содержание
При всем различии героинь романов Лолы Елистратовой речь всегда идет о ней самой. Голосом Маты Хари она рассказывает: «Без привязи, без поддержки – я девочка, которая так и не стала взрослой, всегда неуверенная в завтрашнем дне и стремящаяся прожить день сегодняшний как можно полнее, не думая о последствиях. Вечно в поисках самой себя, то и дело сталкиваясь с самой жестокостью, ища абсолют, который не может дать ни один мужчина…»
В романе «Бог ищет тебя»современная благополучная женщина, пытаясь решить свои, глубоко личные проблемы, неожиданно погружается эпоху модерна XX века, слушает нескромные откровения Маты Хари…
Бог ищет тебя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Какая история – красивая и бесполезная, как томный стиль модерн, сгинувший в жестком функционализме XX века.
Лиза поднялась на Поцелуев мост, облокотилась о перила: стоять, смотреть на воду. Как четки, перебирать воспоминания – тихие, нежные.
И вдруг – с отстраненной, ясной точностью часового механизма – вспомнила свой давний сон.
Не ту – жаркую, густую – первую часть про фавна, а конец сна, смятый и задавленный телефонным звонком Андрея, где был мост, и балконы, и Дима, Дима… и еще что-то очень важное, и надо было понять, что.
Там, во сне, она лежала на огромном балконе какого-то дворца. В действительности на Мойке нет таких дворцов: он напоминал скорее ажурное венецианское палаццо.
Она лежала на кровати, у самого края балкона, над рекой, которая была гораздо уже реальной Мойки – крохотный канал, Зимняя канавка. А с другой стороны реки, на точно таком же балконе, на точно такой же кровати, придвинутой к балюстраде, без сна лежал Дима и смотрел на Лизу, не отрываясь.
А темная вода канала текла между ними, безнадежно разделяя почти соприкасающиеся берега, и заходила в какие-то распахнутые ворота, и никто не знал, какой она выйдет с другой стороны, миновав Остров Мертвых.
Сон – не сон, влажное прикосновение, секунда, пустой музыкальный такт.
Момент краткого выпадения из жизни, внезапного отклонения от судьбы, неподвижности перед действием – миг, в который Бог потерял тебя.
Но жизнь уйдет вперед, грянет иная музыка: ритмическая, сложная – эротические заклинания прихода весны. И наступит стихийное обновление, Весна Священная, новая хореография: сомкнутые фигуры, неуклюжие движения, ноги, завернутые носками внутрь, локти, прижатые к телу, тяжелые втаптывания в землю.
Красивая срезанная роза – стиль модерн – не имеет будущего. У грядущего другие, жесткие очертания, и ты не можешь задержаться навсегда в этом полупустом изящном пространстве, не можешь вечно жить в гостинице «Англетер», смотреть на ангелов и переживать несуществующую любовную историю. Однажды движение продолжится, весна разразится летом, вспыхнет созвездие красных красок, зальет бледно-голубую полоску дрожащего тающего льда, и Бог найдет тебя.
«Если бы Бог не любил мою музыку, я бы ее не писал».
К. ДебюссиВ романе приведены отрывки из пьес:
– «Саломея» О. Уайльда;
– «Пеллеас и Мелизанда» М. Метерлинка; а также из произведений А. Пушкина:
– «Сказка о золотом петушке»;
– «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»;
– «Медный всадник»;
– «Пиковая дама».
В текст вплетены небольшие поэтические фрагменты:
– французских символистов (эклога С. Малларме «Послеполудень фавна»);
– поздних романтиков (Т. Готье);
– русских авторов Серебряного века (Д. Мережковский, К. Бальмонт, А. Блок, М. Цветаева, 3. Гиппиус, Н. Минский, И. Северянин).
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Гипермодерн, или что делать после оргии?
«Оргия – это освобождение во всех областях: политическое, сексуальное, освобождение женщины, ребенка, бессознательных импульсов и искусства. Мы прошли все пути виртуального производства и сверхпроизводства объектов, знаков, идеологий и удовольствий. Сегодня все – свободно, ставки сделаны, и мы все вместе оказались перед роковым вопросом: «Что делать после оргии?»
Жан Бодрийар. «Прозрачность зла»1
Карнавальная культура,
«Камаринская» и «мыльные оперы»
Начну с программного заявления, которое кому-то может показаться банальным, а кому-то – шокирующим.
Одной из главных задач современного искусства является интеграция массовой и элитарной культур (говоря языком Бахтина, «ученой» и «народной» культур). Сразу уточню: под «народной» культурой в данном случае понимается не городской карнавал, не петрушечные театрики и не прочие лубки, давно и с успехом рециклированные «высоким искусством» предыдущих периодов. Нет, речь идет о том, что образованная публика и не назовет иначе, чем «вся эта гадость»: привокзальные любовные романы, торжествующие на бесчисленных лотках, низкопробные детективы и триллеры, а также любимые одинокими пенсионерками «мыльные оперы».
Это факты живой народной культуры нашего времени. Они не только не умерли, но переживают период своего расцвета. Поэтому, не будучи еще подвергнуты никакой «элитарной» обработке, для интеллектуального читателя они неизбежно предстанут покрытыми толстой коркой вульгарности: «пара-литература» для клиентов парикмахерских.
Однако, можно взглянуть на народную (или массовую, или пара-) культуру позитивно – как на мир традиционных структур. В этом случае обнаружится, что нет никаких функциональных различий между нашей гадкой пара-культурой и опоэтизированным лубком, или стихией средневекового карнавала, которая видится нам в романтичном свете. Просто предыдущие эпохи сделали усилие по включению современного им пласта массовой культуры в парадигматическую модель своего искусства.
Но ощущение вульгарности интегрируемого материала, скорее всего, было таким же, как у нас, и в предшествующие столетия. «Балаганчик» Блока, «Петрушка» Стравинского и изысканнейшие декорации Бенуа к балету на эту музыку появились не из чего-то рафинированного, а из похабного площадного спектакля, который тонкостью совершенно не блистал.
Я уже не говорю о карнавальной культуре, одно упоминание которой стало в наше время признаком хорошего тона. Работают целые проекты, посвященные, например, перформативности средневекового карнавального действа. Утонченные европейские дамы пишут статьи об «эстетике обсценного (т. е. непристойного) жеста».
«Обсценный жест» при этом уже не имеет почти никакого отношения к породившей его базовой реальности; он становится своим собственным симулякром, функционирующим исключительно в мире чистых культурологических моделей. Как бы себя почувствовали эти дамы, окунись они вдруг в настоящую «стихию народного праздника»? Как бы построили семиотическую концепцию обсценных перформансов, если бы «актанты» стали реально предъявлять им свои голые вонючие зады?
Оперирование эстетическими категориями типа карнавальное™ стало возможным только благодаря своего рода сублимации, которую вульгарное массовое действо получило в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и – шире – в литературе XV-XVI веков. Я, безусловно, многое упрощаю при таком заявлении, но, тем не менее, базовая идея верна. Этот голый средневековый зад интересен современному интеллектуалу не как таковой, а через призму поэтизирующей многовековой интерпретации, от Рабле до Бахтина. Не будь этой «окультуривающей» поэтизации, он никогда бы не всплыл на поверхность актуальной культурологии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: