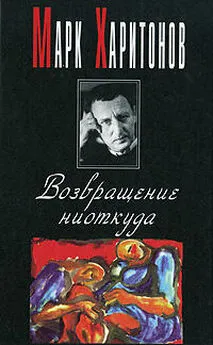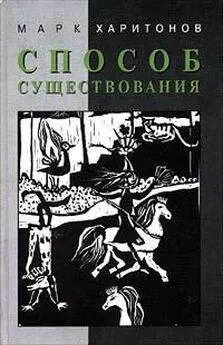Марк Харитонов - Возвращение ниоткуда
- Название:Возвращение ниоткуда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:1998
- Город:М.
- ISBN:5-7027-0524-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Харитонов - Возвращение ниоткуда краткое содержание
Марк Харитонов родился в 1937 году. В 70-е годы переводил немецкую прозу — Г. Гессе, Ф. Кафку, Э. Канетти. Тогда же писалась проза, дождавшаяся публикации только через двадцать лет. Читавшие роман Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», удостоенный в 1992 году первой русской Букеровской премии, узнают многих персонажей этой книги в романах «Прохор Меньшутин» и «Провинциальная философия». Здесь впервые появляется провинциальный писатель и философ Симеон Милашевич, для которого провинция была «не географическое понятие, а категория духовная, способ существования и отношения к жизни».
Действие последнего романа «Возвращение ниоткуда» разворачивается также в небольшом провинциальном городке. Но это уже другая провинция, и времена другие…
Возвращение ниоткуда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Голубь пристроился на голове. Макушка и лоб уже в белых потеках. Еще одна тепловатая капля падает на левый глаз, и нет рук, чтобы вытереться, соскрести — как нет ни бессилия, ни унижения, ни жалости.
Ветер подносит листок к грязным сапогам. Выцветшие солдатские штаны, гимнастерка без пояса, тощая детская шея, рыжеватый пушок на подбородке.
Кто он? Что-то вздрагивает будто в самом воздухе.
Тонкое лицо, знакомый вырез ноздрей, смешной хохолок на макушке… а откуда эта горбинка на носу? Ударился обо что-то в детстве, сместил внутренний хрящ…
Кто это может знать? Откуда?
Знание, существующее само по себе.
Рот полуоткрыт, губа отвисла.
Рыжая собака навострила уши. Напрягся и потемнел островок шерсти на загривке. Как будто она способна почуять. А может, и она существует, как я, потому, что мальчик с рыжеватым пушком на подбородке, с неузнаваемой горбинкой носа пробует разобрать каракули на мятых листах, и нюх ее заполняет пространство запахами.
Запах желтеющей осенней листвы, запах сладкой земляной сырости, запах гниения и увядших цветов.
Шевелятся губы, вздрагивают загнутые, рыжеватые, такие знакомые ресницы.
Разбираешь ли ты почерк, сынок? Понятен ли тебе еще язык? эти надписи на камнях? сами эти камни? эти обломки бетонных плит и загаженных изваяний? этот незнакомый, как будто призрачный мир вокруг? Можешь ли ты меня слышать?.. Точно возобновляется жизнь из невнятных строк в миг, когда ты пробуешь их прочесть, шевеля губами, и я могу говорить с тобою, сынок… ничего, что я так тебя называю?..
Порождение моего духа или моей плоти.
Как тебя зовут? Я не знаю, сколько между нами времени. Мы никогда друг друга не видели и уже не увидим, ты не можешь ничего знать и помнить — только шевелить губами, точно узнавая слова, пусть даже чего-то в них еще не понимая. Но вдруг благодаря тебе смогут теперь существовать дальше вместе со мной все, кого удалось мне в себя вобрать или вызвать к жизни? Не сразу, непростым усилием, но, может, нам с тобою еще дано что-то восстановить, заполнить заново потрясенный опустевший мир лицами, звуками, запахами, словами, мыслями, новой и вечной любовью, или, может, безумием.
Глаз козы с горизонтальной щелью зрачка. Куст акации, как зеленый взрыв. Крохотный цветок, потерявший и еще не вспомнивший свое название, с лазурным крапом в желтом, как солнце, зеве.
Можешь ли ты ощутить, как ощущал когда-то я, что совершается и безвозвратно уходит в каждое из вот этих мгновений, пока мы замираем над строками, похожими на бессмысленное бормотание — чтоб, может быть, в них перейти? Я ничего не сумел, я потерпел поражение, от меня ничего не осталось — лишь ненадежная память да горстка слов о тех, с кем соприкоснулась однажды моя мысль или моя душа. Но может, для чего-то и я оказался нужен.
Будь благословен. Ты не можешь меня знать и видеть. Но разве те, кто видят друг друга каждый день, воспринимают рассеянным слухом колебания смущенного воздуха, даже соприкасаются друг с другом — разве они на самом деле встречаются? Не более чем тени, которые проходят одна сквозь другую, не замечая, ничего не оставив и не изменив в себе. Подлинная встреча дается нам лишь как чудо в тот самый редкий миг, равный проникновению, когда мы не просто кажемся себе живыми. Только это и может остаться — то, что было в нас настоящего: любовь, боль, страх, радость, стыд, вина.
Не пытайся меня понять. Того, что вдруг мне открылось, не вместить в слова и никому не передать — разве только намеком, этой вот дрожью, от которой напрягается все больше светлеющий воздух. Может быть, не знать этого — значит жить. Ничего невозможно вспомнить, только прожить самому заново; ничего нельзя передать по наследству — только попытку слов, беспомощные каракули на невразумительном языке, только напряжение и страсть.
Буквы преображаются, прорастают стебельками растений, усиками разбегающихся насекомых. Шелестит желтая листва, в вышине сходятся стволы берез. Тонкий пласт земли на вывороченных корнях пахнет жизнью и умиранием. Проступает кровь из надломленной ветки.
Прозрачный туман омывает зрение как слезы,
Какая вдруг ясность! Расширяется слух и зрение.
Откуда этот звук? Поначалу кажется, что серая корова трется головой о ствол дерева, долго, равномерно, упорно, и так же равномерно позвякивает колокольчик на ее шее. Нет, это она лижет ствол. Дерево живет лишь одной половинкой, зеленеет всего несколько ветвей, но еще проступает смола на горькой, как губы, коре, смешивается со сладкой слюной.
Золотая листва устилает землю. От нее, а не с небес, исходит свет, наполняющий воздух. Небо кажется почти черным, и сияющие земные предметы готовы всплыть в эту густую, прозрачную черноту.
1990–1994
Послесловие на развалинах
«В какой-то момент бывает нужно перечесть написанное глазами читателя постороннего, чужого, — писал я в 1990 году, заканчивая цикл рассказов «Голоса». — Или, скажем, иностранца: взгляд не просто отстраняется — воспринимаешь себя как бы из другой системы координат».
Подвыпивший персонаж в одном из этих рассказов пробует объяснить непонимающему мальчику, где работает его мать. «На фабрике по переработке старой бумаги в новую… Чтобы можно было на ней печатать новые, полезные книги… Ей доверили не просто чан, а секретный. Ей доверили бумаги особо вредные. Изъятые. На почте, на таможне, у некоторых отдельных граждан. Книги не наши, печатные материалы, машинописные в том числе… Чтобы она весь вред, весь этот чужой опиум вываривала без остатка и спускала по трубам, куда положено… А она как пользуется доверием?.. Она ведь кое-что из этого опиума задумала припрятывать и приносить домой, причем с целью наживы. Библию, Святое Писание, предлагала за десятку, как какой-нибудь детектив!»…
Со странным чувством перечитываешь это сейчас: поймут ли иные мои младшие современники, подросшие с тех пор дети, что тут не просто пьяный абсурдный бред, а вполне житейская история сравнительно недавнего советского времени? Пожалуй, не только иностранцам надо теперь пояснять, что самиздат, рукописи и печатные книги, запрещенные, изъятые работниками КГБ при обысках, предписано было превращать в макулатуру. Особенно много бумаги поставляла для переработки таможня и почта: изымалась и уничтожалась вся религиозная литература — «опиум для народа» (знакомо ли вам это выражение? — мысленно осведомляюсь я), который пытались «забросить» к нам разные миссионерские организации. Свое первое Евангелие в бумажной обложке я купил у такой женщины; она же предлагала коллекционерам и зарубежные марки, отклеенные с конфискованных на почте конвертов.
А в романе «Возвращение ниоткуда» перед пунктом для сдачи макулатуры выстраивается с ночи очередь — надо ли и тут объяснять, что это вовсе не фантасмагорическая выдумка сочинителя? Недавний советский гражданин подтвердит: существовал своеобразный бизнес. За несколько килограмм сданной бумаги человек получал талоны на покупку «дефицитных» книг — вовсе не обязательно для чтения: их можно было потом перепродать с выгодой. (Особенным спросом пользовались Дюма и Морис Дрюон). Манипуляции с бумагой и книгами приносили доход, для несведущих труднообъяснимый. Попытки подсунуть в кипу бумаги постороннюю тяжесть тоже не мной придуманы; ради «макулатурных» талонов сдавали и хорошие книги, иногда украденные в библиотеке. (Приемщик мог великодушно не заметить библиотечный штамп). Что категорически запрещено было сдавать — это произведения классиков марксизма-ленинизма и партийных руководителей. На многотомных сочинениях Брежнева или Андропова можно было бы хорошо заработать, но за этим строго следили — идеология! Надо ли вам пояснять, как грозно звучало тогда это слово?..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: