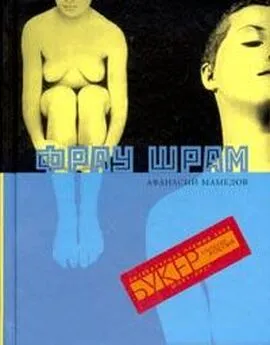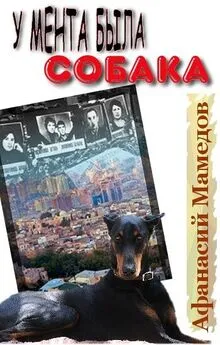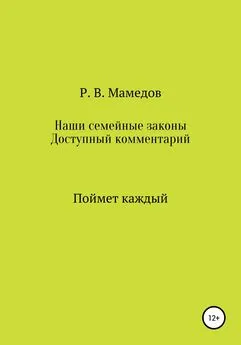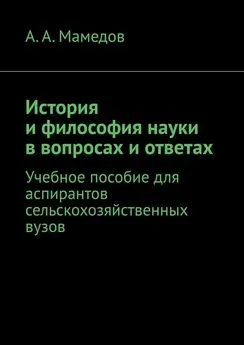Афанасий Мамедов - Фрау Шрам
- Название:Фрау Шрам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Афанасий Мамедов - Фрау Шрам краткое содержание
«Фрау Шрам» — каникулярный роман, история о любви, написанная мужчиной. Студент московского Литинститута Илья Новогрудский отправляется на каникулы в столицу независимого Азербайджана. Случайная встреча с женой бывшего друга, с которой у него завязывается роман, становится поворотной точкой в судьбе героя. Прошлое и настоящее, Москва и Баку, политика, любовь, зависть, давние чужие истории, ностальгия по детству, благородное негодование, поиск себя сплетаются в страшный узел, который невозможно ни развязать, ни разрубить.
Фрау Шрам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я предлагаю ему допить коньяк; он, конечно же, совсем не против.
Надавливаю коленом на чемодан, закрываю, потом достаю одну чистую рюмку и дую в нее. Отец машет рукой.
И в самом деле — что-что, а рюмки у меня никогда не пылятся.
Мы выпили за «яхши ел» [12] Пожелание доброго пути (азерб.)
.
Отец закусил долькой лимона с отростком, похожим на куриную попку. Сок брызнул на водолазку, которую я недавно подарил ему на день рождения. Он щипком оттягивает ее и сбивает капли лимона.
— Вот почему я предпочитаю черный цвет, — говорит он, когда понимает, что следы все равно останутся, и просит меня, чтобы я сходил на кладбище в Баку, поклонился за него и за себя могилам предков.
Мы попробовали вспомнить, когда в последний раз были на старом еврейском кладбище в Баку. Оказывается — в восемьдесят пятом. Вздохнули. Допили бутылку.
Когда я уже закрыл дверь и остался с ключами в руке, вдруг вспомнил: надо заплатить за комнату мужу моей кузины.
На ходу отсчитываю деньги. (Отец головой качает: «Пересчитай, лишние дал».)
Стучусь к соседке.
Людмила берет деньги и просит меня на минутку задержаться. Идет в чулан. Выходит, протягивает продолговатую коробочку с трубовидным фонариком.
— Если вам не нужно, подарите в Баку кому-нибудь. Ой, а вам идет короткая стрижка.
При этих словах появляется Арамыч. Здороваясь с отцом, магистр игровой терапии кладет руку на талию Людмилы, привлекает ее к себе. Я думаю: вот он типичный жест собственника: «Мое». Вероятно, узрел в отце конкурента.
— Илья, — говорит Арамыч, — удачи тебе.
Я удивлен: он впервые назвал меня моим именем.
— Вечно тебя скоморохи окружают какие-то, — сказал отец в лифте, стоя ко мне спиной.
На улице Остужева мы встретили Людмилину дочь Аленку. Девочка возвращалась из школы со своей подругой. Увидев нас, поздоровалась и тут же смутилась; чтобы скрыть свое подростковое смущение, стала о чем-то быстро-быстро говорить подруге. Потом девочки перешли улицу и скрылись за углом дома, на котором висела вывеска дантиста. Коренной зуб был похож на дрейфующий континент стрелка указывала направление в кабинет док. Беленького — и напоминал забывчивому человечеству о давней трагедии планетарного масштаба.
Собирался дождь, он давно уже собирался.
За пыльными стеклами троллейбуса медленно проплывало серое от низко нависших туч Садовое кольцо. Медленно скользила влево вместе с зеленой крышей дома (зеленее вряд ли бывает) мадам Баттерфляй братьев «МММ»…
Мы как-то неудачно встали, прямо рядом с компостером, и отца на каждой остановке просили пробить билет.
Я ждал, когда же, наконец, он взорвется, но альтруизму его не было границ; другой бы на месте отца давно бы нахамил, а он… железные нервы. Когда отец в очередной раз прокомпостировал билет, я спросил:
— Может, переберемся? Лично меня это раздражает.
— Не стоит, в тихом месте наговорю тебе все что думаю, с тебя, конечно, как с гуся вода, а я буду потом ходить и валидол сосать.
Ах, вот оно что, а я-то думал…
Когда он такой — только на бемолях или только на диезах — я не понимаю его; не понимаю, о чем он, а он не понимает, о чем я, и тогда оба мы предпочитаем молчать; каждый о своем. Последнее время все чаще и чаще.
Я вспоминаю про подаренные Арамычем очки, хотел достать их из кармана рубашки, но тут понимаю, что забыл их взять, оставил дома.
Эх, жаль! Сейчас бы укрепить их на своем носу, хотя бы на время отпуска.
Ищу себя в широких и низких дымчатых стеклах идущего на четверть корпуса впереди интуристовского автобуса, в них сейчас отражаются куда более демократичные на вид стекла нашего троллейбуса. А мир, действительно, — и порист и сквозист. В некоторых местах, сквозь приглушенные тенью лица пассажиров, просвечивали добросовестно, но бездарно подрезанные ветки деревьев, витрины магазинов, оформленные на медные гроши, — укрепляли свою репутацию правдивых, безжалостно преданных соцреализму художников, — крутили и крутили бесконечный телесериал из жизни пешеходов на улице Эн — улице, к которой мы с отцом стоим сейчас спиной. Благодаря такому вот случайному наложению нескольких сред, текучести, наваждению и ширине улицы и стекол, свету и свободе в выборе моделей, неразборчиво-повседневный, плодовитый и тесный мир города сокращается до одной идеально прописанной половинки стекла, хранящей память о самом дорогом и вечно чтимом — невидимой точке, помнящей о начале пульсации, становится и глубже и интенсивнее. Однако я так и не отыскал своего лица, но уверен: найди я его — оно было бы намного убедительнее сейчас, среди других лиц, чем в домашнем зеркале, уставшем уже от одного и того же погрудного портрета хозяина, тусклого фона, скромных аксессуаров…
Да, если уж молчать — так, конечно же, в очках. Эх, как же мог я их забыть?!
Отец все косится и косится на меня. Я тоже время от времени бросаю взгляд на своего родителя, как бы отстаивая позицию, которой у меня вообще-то, честно говоря, нет.
Аристократичный его профиль, будто с древней монеты, в серповидной серебристой бороде. Серая низковоротная водолазка — я покупал ее себе, но подарил ему на день рождения — прекрасно сочетается и с бородой, и с черными флотскими брюками, сидящими на нем как на юноше. Он по-прежнему молод, он свеж, он нацелен на романы, и ему никогда, никогда не дашь пятидесяти. Соленые морские ветра словно законсервировали отца, даже литературные неудачи последних лет (Москва, в отличие от Баку, с поразительным упорством, если не сказать упрямством, отфутболивает его прозу, на мой взгляд, вполне достойную столицы) не отразились на нем внешне. И все-таки морская форма шла ему больше. А уж какое на меня в детстве производила впечатление! Как безмерно счастлив был я, когда, вместо того чтобы повесить форменную фуражку, он отдавал ее мне — «на, походи — а во дворе можно? — нет, во дворе нельзя». А приходил он, после развода с матерью, не чаще одного раза в неделю и всегда ненадолго, максимум часа на два. Задерживаться дольше, видимо, не позволяли важные литературно-береговые дела. Только когда он вернулся с ледовой в семьдесят каком-то, страшно морозном и снежном году, с дивными историями про скованный ледяным панцирем север Каспия, — он задерживался до трех, а то и четырех часов. Ходил в ту пору отец на «Геннадии Максимовиче» — буксировщике ледокольного типа, на котором капитанствовал знаменитый на весь Каспий Шахбазов. Случалось, брал отец и меня с собою, с целью привить любовь к высокой волне, и долгое, очень долгое время наивно полагал, что это возможно. Но как ни странно, я до сих пор хорошо помню звук уходящей якорной цепи, помню запах машинного отделения, где все кажется промасленным, все, вплоть до рабочего стола, за которым сидел отец, где шумно так, что только и думаешь, как бы тебе поскорее удрать, выбраться на палубу, хорошо бы шлюпочную, — там ни души. Или в каюту. Я помню приглушенные мудрые удары в причал автомобильных покрышек, развешанных по тому и другому борту, как вешали свои щиты древние викинги на драккарах; помню и длинный стол в кают-компании, буковые торцы которого поднимались, во избежание сползания посуды, при сильной качке, а в случае военных действий он незамедлительно превращался в хирургический; судовые лампы, оправленные в металлические прутья, помню, как корабельная привычка перешагивать через высокие пороги трюмов, открывая дверь, перекочевывала вместе со мной на берег. В дым пьяного кэпа на смотровом мостике и его блядовитую кокшу, почему-то всегда с раздражением поглядывавшую на меня («развели детсад на судне»), я тоже, бывает, вспоминаю. Отец хотел, чтобы слова «форштевень» и «фальшборт» вызывали у меня прилив романтизма, я же только чувствовал ограниченное пространство холодного железа на зеленовато-стальном, как отцовские глаза, ковре моря. Мне всегда казалось, что ковер этот требует от меня чего-то такого, чего во мне отродясь не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: