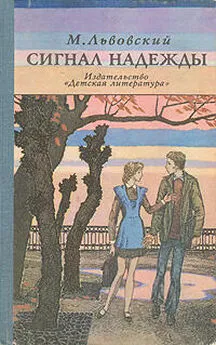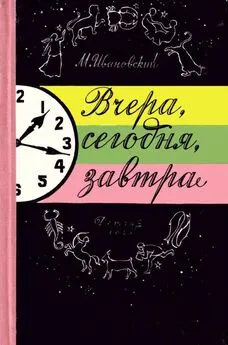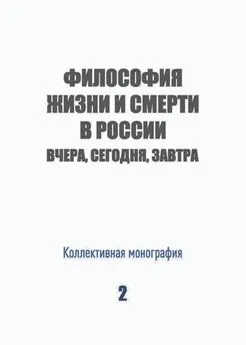Михаил Черкасский - Сегодня и завтра, и в день моей смерти
- Название:Сегодня и завтра, и в день моей смерти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Черкасский - Сегодня и завтра, и в день моей смерти краткое содержание
Сегодня и завтра, и в день моей смерти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но молчала ты. Ни радости, ни удивления. Только стылая мука. От того, что вернули оттуда, где единственно и была для тебя жизнь. Врач вошел. И за ним мотопехота.
В вестибюле утоптал чемодан, и, когда подошел к боксу, уж носилки разлеглись на полу, и мама надевала на тебя кофточку. Обвились ручонки вокруг шеи. Положила. Укутала. Отпечаталось, как застыли на миг все. Надолбами. А ты… на земле. Насмотрелись на всякое скоропомощники, но лицо твое и на их навидавшихся отразилось: бережно взяли, тронулись. "Осторожно, Вася… двери, двери там подержите!.." Пять шагов по вольному воздуху. Под вечерним ослепшим небом. Тронулись. Эх, худая телега попалась, трясучая, и возница неопытная — на асфальте и то подбирала все кочки.
— Молодая она у нас, я скажу, — санитар потянулся к глазку: — Нинка, черт, аккуратнее! Что ты… не дрова везешь.
Ветер, дождь, тьма — хорошо! Въехали, встали. "Я возьму… — протянул к тебе руки и — Тамаре: — Ты лифт. Спасибо вам, спасибо!.." — кивал санитарам, которые, молча понурясь, не торопились уехать, глядели на нас. В лифте так развернулся, чтоб была ты спиной к зеркалу. Мать без слов озабоченно распахнула дверь. Вот и дома мы, Лерочка, дома. И, ополоснув руки (все же!) кинулась мама укладывать, раздевать. А моя — прощаться. Первый раз после лета увидала тебя. Но — характер — ничего на ее лице от твоего не отразилось.
И пошла наша первая домашняя ночь. И, должно быть, поэтому тоже спал. Вприсядку, урывками. Караулил. И осталось мне болью укорной такое: среди ночи, откинув с груди одеяло, рвешь с себя ослабевшими пальцами тугую пижаму. Душно — ведь телом дышала больше, чем… Распахнул балконную дверь — полилось, полегчало. И уже не ложился. Утром подозвала меня, начала водить на ладони:
П-о-ч-е-м-у з-е-р-к…
— Зеркало, доченька? Замазано? Протекло с потолка, а я не успел вымыть.
Подняла к нему глазик. Ничего не сказала: чист он был — простыня простыней. А Тамара ходила по квартире и накалялась: "Грязь!.. Неужели нельзя было убрать?" — "Я убирал". — "А это?.. А это?.. " — остервенело мыла, терла,
скребла. Горько стало, обидно, но молчал, понимая: так всегда у нее прорывалось отчаяние — ухватиться с ненавистью за что-то хозяйственное. Вот на днях рассказала: "Ты и не знаешь, сколько я там головой билась". Ну, так это, если не видит никто. И, когда поутихло немножко, подошла, ткнулась в плечо, заплакала:
— Прости меня, папочка… Иду-у, доченька!.. — на стук в стену, отделявшую кухню от вашей спаленки. Теперь только так говорим. — Саша, Лерочка хочет в большую комнату. — Взглянула: можно ли? Что ж, зеркал там нет, стекла книжных шкафчиков в стороне. — Ну, вот здесь доченьке будет хорошо. Окно откроем. Что? Напиши. Шкафчик? Да, шкафчик твой.
Не сердись. Открыть? Сейчас, сейчас.
Пошла, стиснув зубы. И взглянули они на тебя со всех полок — книжки, куклы, учебники, счетные палочки, обезьянки, рыжий лис, три цыпленка на жердочке, пушистых, раскрывших красные клювики. Так глядели вы друг на друга. Безучастно они, горько-горько, прощально ты. "Что, доченька? Закрыть? Закрой, папочка".
Наверно, впервые в тот день, 22 сентября, а потом все больнее чувствовал, а, почувствовав, понял: через все он проходит, человек, должен пройти. Пока сам не провалится. На сегодня ему уготовано это. И пройдет. Если ж нет меж стеснившихся скал ни тропки, ни лаза — на четвереньках, ползком, но пройдет. Только надо стерпеть. Вот когда хорошо, не замечаешь — несет. И уже проходя через что-то, знал, что завтра пройдем сквозь другое, а спустя день — через третье. Знал: не станет тебя, и на этом не кончится. Надо гроб. Документы. Место. Могилу. Везти. Зарывать. Возвращаться. А потом… а потом было пусто и голо. Как на белом листе. На котором все равно нарисуется что-то.
Мы стояли на кухне, и вдруг… звук какой-то, знакомый до дрожи и дикий — ножонки по полу… Тамара метнулась и в дверях:
— Лера!!! - (у окна, возле кресла… стояла). — Лерочка! — подхватила. — Что ты, доченька?! Больно? Саша, скорей!..
По дивану металась. Анальгин… вода, шприц для питья. Подал, выдернул шнур, перенес телефон в спальню, чтоб не слышала (не забыл это сделать), позвонил в неотложку. Как же больно тебе, если силы нашлись встать, пройти, не упасть. Что же делать? Тянем, тянем, и вот, начинается. "Звоните в детскую поликлинику, — сказали из неотложки. — Мы только вечером. Туда, туда. — И оттуда ответили: — Хорошо, ждите. Я сейчас же доложу врачу. Ах, вот, мне подсказывают: уже знают. Нам звонили из вашей больницы. У нас все будет наготове". Сообщили, побеспокоились. Или так положено?
— Ну, вот, Лерочке легче, да, доченька? Гуленька ты моя, ну, зачем же ты встала? Постучала бы в стенку — я бы прибежала. Не будем укол делать, нет? Так прошло?
Да, прошло. Да, пришла медсестра. Постояла в передней: "Завтра врач к вам придет. Зачем? Ну, мало ли, так надо".
Утром неожиданно попросила лимонаду. А в больницах ни разу, хотя так любила его. В этот день, двадцать третьего, мама спрашивала тебя: "Лерочка, ты не сердишься на нас с папой? Нет? Ни за что?" П-о-ч-е-м-у т-ы с-п… "Почему спрашиваю?" Потому что было: "Загубили вы меня". Я на кухне был, когда:
— Саша… — (Вздрогнул: снова тем взывающим голосом). — Саша, я чистила Лерочке ротик, и ватка соскочила с палочки… не могу найти.
Не глядел я туда с самого лета, боялся. А тут… нет, не дай бог никому никогда увидеть такое! Не открыть тебе было уж рта. Лишь немножко. И увидел: только сбоку была еще узкая щелочка. Как в стене, бугристой, изъеденной. Еще день, два, и задушит. На глазах. Если же туда, в щелочку, попадет этот ватный комочек… "Ну, что?.. Нет?.." — "Не вижу…" — "Как же быть? Лерочка, тебе не мешает? Нет?.." И оставили мы тебя. Чтоб не мучить. А потом, на кухне:
— Если не сделаем, то… — Морфий? — взглянула Тамара. — Нет. Цикуту. Сократ… корень…
Лишь позднее прочел у Платона, что совсем не корень давали они, но отвар из листьев, стеблей. И отнюдь не мучительная, но охлаждающая (начиная от ног) приходила она.
— В Разливе есть. Там, где жили. Мы с Гуленькой все ее вырывали. Чтобы дети… — опустила глаза.
Знаю. И на островке.
Дождик только… — взглянула в окно. Он с утра сеялся. — Что ты наденешь, сапог нет.
Ботинки. А как дать?
Натрем… на терке. И — сок.
Я попробую на себе.
Ты совсем спятил! Ну, попробуешь, и что?
Не знаю… немножко… А если?..
— Если — тогда вообще нечего. Сколько детей травится…только погрызут.
Да, там, на Серафимовском кладбище, три могилки. Трех мальчиков. От нее, от цикуты. Так их вместе и положили.
— Надо ехать. Стемнеет… — встал.
Мы похоронили тебя по-интеллигентски. Не голосили, не рвали волосы, не посыпали головы пеплом. Утром позвонила Лина: "Ну, как?" — еще что-то недожеванное дотаивало в ее горячем рту: как всегда на бегу. "Лерочка умерла". Позже скажет, что ее поразило, как спокойно сказал. И добавил: "Никому не говори". Не хотел я, чтоб знали. Не хотел, чтобы видели. Не хотел никого приглашать. Только мы, Анна Львовна да мать. Только. Но и здесь неуклонно, неумолимо заставляли пройти нас, как всех. Снова брали тебя на учет, крепко-накрепко, чтобы вычеркнуть навсегда. И частенько меня подмывало аукнуться в адресный стол. "Как фамилия?" — "Ваеия Лобанова Алесановна". — "Год рождения? Где родилась? Нет, такая не проживает".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: