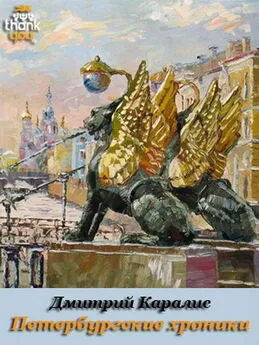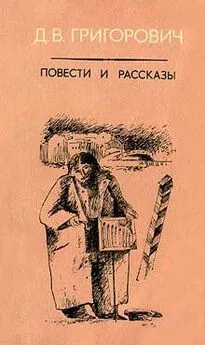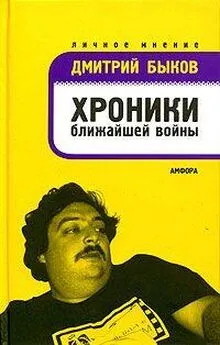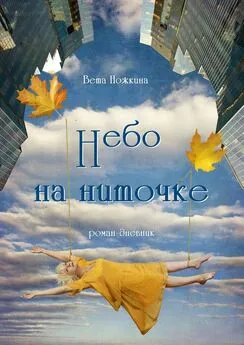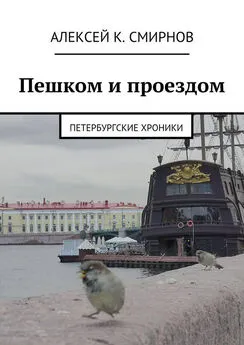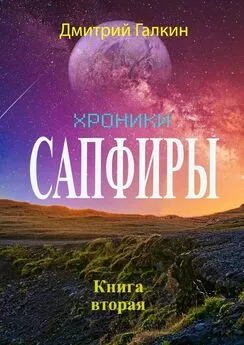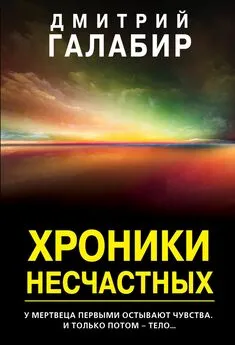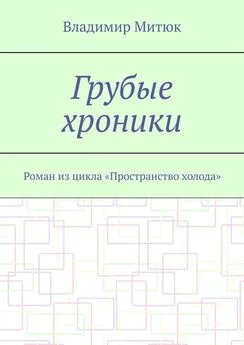Дмитрий Дмитрий - Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010
- Название:Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2011
- Город:СПб
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Дмитрий - Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010 краткое содержание
Роман представляет собой дневниковые записи и рассуждения, объединённые общим местом действия — литературным Ленинградом-Петербургом. На страницах Вы встретите Аркадия и Бориса Стругацких, Юрия Полякова, Даниила Гранина, Виктора Конецкого, Михаила Веллера, Глеба Горбовского, Михаила Успенского и многих других писателей, которыми автор поддерживал приятельские и профессиональные отношения.
Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К тому же умудрился потерять Ваше последнее электронное письмо, где Вы напоминали, что я должен выслать. Убилось в компьютере. Если сможете — повторите. Там была и статья про Пушкина за 1940 год. Все потерял, умница эдакий!
У меня два дня назад вышел сигнал книги «Роман с героиней», изд. журнала «Нева», 2003 г. 318 стр. Там десять новых рассказов, объединенных в повесть «Дела семейные» (про близнецов, часть Вы читали) и собственно «Роман с героиней». Выйдет тираж — пришлю.
Большой привет Николаю Савостину; книга его — блеск! Поздравляю и с рождением вольного интернационального союза писателей «Нистру»!
Вот и все. Жду ответа, как соловей лета! Ваш Каралис.
2004 год
27 февраля 2004 г.
Несколько дней назад отвез на опознание в Музей Октябрьской железной дороги дореволюционную фотографию из семейного архива: усатый господин в двубортном мундире с плавным изгибом высокого отложного воротника. Год съемки неизвестен; место съемки — ателье Ковалевского на Большой Московской улице в Петербурге. Вопрос: что за форма на господине? И может ли он быть моим прадедом-кондуктором, погибшим при крушении царского поезда Александра III под Харьковом в 1888 году и торжественно, с факельным шествием по Невскому проспекту, погребенным на Римско-католическом кладбище? С отданием почестей, полагающихся Георгиевскому кавалеру, каковым он стал в боях на Шипке.
Милая женщина с добрыми глазами выслушала меня и попросила снять с полки тяжелый альбом. Снял. Зашуршали страницы, переложенные папиросной бумагой. Увы! Мундир усатого господина сильно отличался от кондукторской формы времен императора-миротворца — тогда царствовал псевдорусский стиль: кубанки, зипуны, сапоги, шаровары. Это не мой прадед. А кто же тогда? Почему его фотография хранилась в нашем доме?
— Может, это тоже железнодорожник? — спросил я. — Видите, тут на пуговицах как будто молоточки, но даже в лупу не разглядеть…
— Похоже, — кивнула музейная женщина; ее звали Татьяна Павловна. — Но сейчас точно не скажу. Более ранние альбомы у нас в другом месте. Оставьте координаты, я позвоню.
Протянул визитную карточку.
— Знакомая фамилия, — задумалась женщина.
— Пишу, печатаюсь, книги иногда выходят! — я сдержал дурацкую улыбку: вот она, литературная известность, и в Железнодорожном музее обо мне слышали!
Вчера позвонили из музея и спросили: кем приходится мне Николай Павлович Каралис?
— Отцом, — был ответ.
— А где он у вас работал в блокаду? — спросила Татьяна Павловна.
— Рассказывал, что работал в «коридоре смерти», водил в блокадный Ленинград эшелоны. Немцы стояли рядом и били прямой наводкой по поездам. Я искал в литературе, но никакого «коридора смерти» не нашел…
На том конце провода помолчали.
— Правильно. И не найдете. «Коридор смерти» надо было называть «Дорогой Победы». Вы в музее на станции Шлиссельбург были?
— На станции Шлиссельбург был, но музея не помню.
— Там открыли музей сорок восьмой паровозной колонны особого резерва НКПС. На правом берегу Невы от станции Шлиссельбург и начиналась «Дорога Победы», она же «коридор смерти». Есть фотография вашего отца. И в двух книгах о нем упоминается. Не знали?
— Не знал. Отец умер, когда мне было двадцать два года…
— Если хотите, я дам вам телефон Марии Ивановны Яблонцевой, у нее хранятся картотека и личные дела всех работавших на той дороге. Я с ней уже разговаривала, она помнит вашего отца.
— Записываю… — я схватил карандаш.
Собрался с духом, позвонил. Марии Ивановне сейчас восемьдесят лет, а в сорок третьем было девятнадцать.
— Что же вы так поздно об отце вспомнили? Мы же собираемся каждый год — и дети, и внуки колонистов…
— Кого, простите?
— Кто в сорок восьмой паровозной колонне работал — колонисты. Мы уже все как родные стали. Ваш отец есть в нашей картотеке. — Было слышно, как она шуршит бумагой. — Вот, паровоз № 713–66, политрук, начальник поезда, машинист.
— Машинист? Никогда не слышал, что отец умел водить паровозы. Вы не ошиблись насчет машиниста?
— Все политруки и начальники поездов должны были уметь водить поезда. Кто же доводил составы, когда убивало паровозную бригаду? Не мы же, девчонки-кондукторы… Хотя и такое бывало.
— Часто убивало?
— Поезда в четырех-пяти километрах от переднего края шли. Немец по нам прямой наводкой бил. А из тридцати политруков только пятеро дожили до конца войны. И ваш отец тоже…
— А вы его помнили? Он 1904 года рождения…
— Лично я его не помню, но фамилию, конечно, слышала. Он у вас в каком году умер?
— В мае 1972-го…
— Мы как раз в те годы только совет ветеранов организовали, стали собираться.
— Хотелось бы встретиться, — попросил я.
— Приезжайте на следующей неделе. Покажу материалы по сорок восьмой колонне. Поздно, поздно вы об отце вспомнили…
В ее словах звучал не упрек, а сожаление.
Мария Ивановна: «Из тех, кто работал в сорок восьмой паровозной колонне, сейчас осталась горстка. Гибли каждый день. Работали на пристреленном участке, проскочить который можно было только на полном ходу, при контрогне нашей артиллерии». Сказала, что нынешней молодежи этого не понять, не объяснить. Как осталась жива? — сама удивляется. Вагоны горели, останавливаться было нельзя. После войны работала медицинским работником в железнодорожной поликлинике. Двое взрослых сыновей, внуки…
Отцы моих одноклассников были сплошь героические: они прыгали с парашютом в тылы врага, ходили в разведку, брали языков, лежали несколько дней на снегу под Курском, сверкали по праздникам орденами и медалями, а батя одного паренька красиво буйствовал во хмелю, что считалось следствием тяжелой контузии под Кёнигсбергом. А мой — начальник поезда, «в боевых действиях участия не принимал», имел «бронь» — освобождение от призыва в действующую армию. Ни тебе ранений, ни тебе рассказов о героических атаках на врага, даже железнодорожный китель осколком ему не порвало. Рассказывал в основном забавные истории да всплакнул один раз, когда мы пили с ним коньяк на День Победы.
«Начальник и политрук поезда» — звучит как-то красиво, начальственно. Но не в поезде Москва — Сочи, а в «коридоре смерти», под обстрелом немецкой артиллерии…
29 февраля 2004 г.
Взял жену, сына, помчался на машине на железнодорожную станцию Шлиссельбург — выкупать у прошлого отцовские деяния. Поземка, холодно, скользко. Ольга напряглась на заднем сиденье, чувствую — ей страшновато, но молчит. А меня так и несет — вперед и вперед. У въезда на огромный мост в районе Кировска чувствую, что контроль теряю. Остановился, посадил Максима за руль. Сел рядом с Ольгой, она вздохнула с облегчением. Открыл окошко — ветерок свищет… И всё об отце думаю: никто в семье не считал его героем… А на старости лет и вообще бывало ему невесело…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: