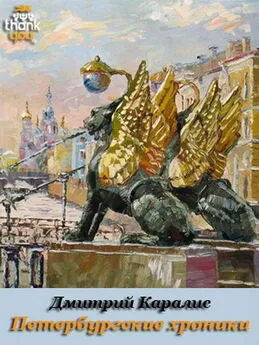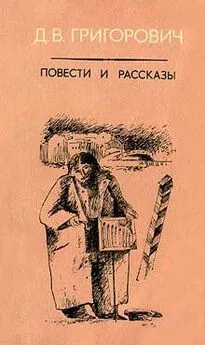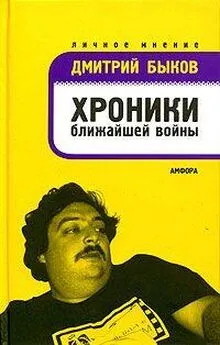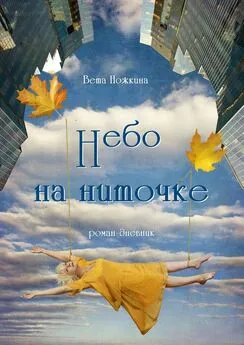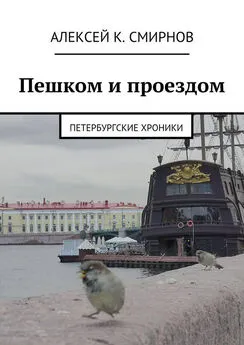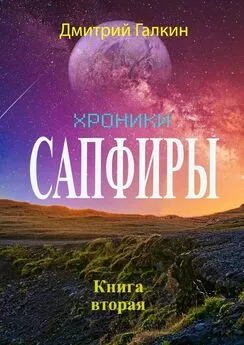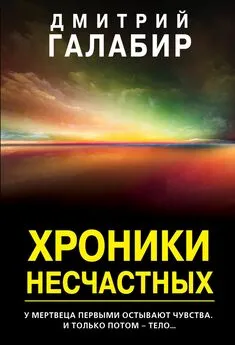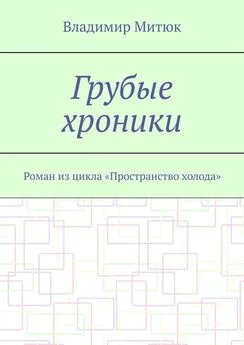Дмитрий Дмитрий - Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010
- Название:Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2011
- Город:СПб
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Дмитрий - Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010 краткое содержание
Роман представляет собой дневниковые записи и рассуждения, объединённые общим местом действия — литературным Ленинградом-Петербургом. На страницах Вы встретите Аркадия и Бориса Стругацких, Юрия Полякова, Даниила Гранина, Виктора Конецкого, Михаила Веллера, Глеба Горбовского, Михаила Успенского и многих других писателей, которыми автор поддерживал приятельские и профессиональные отношения.
Петербургские хроники. Роман-дневник 1983-2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Маленький музей на втором этаже. Стенды с фотографиями и картами по стенам. Вещи военной поры — фляги, коптилки, массивные телефонные аппараты, гильзы, железнодорожные фуражки, фонари, девичьи платочки и береты.
На снимке участников паровозной колонны № 48 особого резерва НКПС «Большая земля — Ленинград» мой отец в центре.
«Здравствуй, батя», — мысленно сказал.
Такого фото у меня нет — лицо худое, изможденное. Но взгляд спокойный, уверенный. Белая каемка подворотничка на темном служебном кителе. Наверное, фото взяли со служебного удостоверения. Батя всегда отличался аккуратностью в одежде. Помню его белые целлулоидные воротнички, лежавшие в комоде. Снимок сделан, скорее всего, в блокадном Ленинграде. Отец моложе меня нынешнего — ему тридцать девять лет.
Хранитель фондов Мемориального музея «Дорога Победы» Людмила Эйновна Французова стала стыдить, что мы не приезжали раньше, доложила, что ей звонили из музея насчет нас, заставила пить чай из самоварчика и убежала к себе в комнатку — бить по клавишам старой пишущей машинки, делать срочную корреспонденцию для местной газеты.
Максим прошелся вдоль витрин музея с новым цифровым фотоаппаратом и снял по моей просьбе некоторые экспонаты (в основном фотографии военных лет).
Вот что узнал. Строительство железной дороги началось на следующий день после прорыва блокады. Строили пять тысяч человек под обстрелами и бомбежками. В результате прорыва блокады образовался узкий коридор болотистой земли, начиненный минами и неразорвавшимися снарядами. Разминировали, хоронили погибших при прорыве и сразу возили землю для насыпи в мешках, таскали на себе, на листах кровельного железа, гатили болото, рубили лес на шпалы, спали на снегу. Дорогу в тридцать три километра построили за семнадцать дней! Свайно-ледовую переправу через Неву выстроили в кратчайшие сроки. Забивали копрами сваи в дно (течение реки — 2 метра в секунду!), по верху льда вмораживали шпальные клети, стелили на них рельсы. И 7 февраля по этой дороге прошел первый поезд с продовольствием в Ленинград. Гитлер был в бешенстве! Шлиссельбургская трасса соединила Ленинград с сетью железных дорог СССР. Немцы стояли в 4–8 километрах от транспортного коридора. У них были звукоуловители, мощные авиационные прожектора, они начинали обстрел, как только поезд въезжал на мост через Неву. Тридцать паровозов было выделено 48-й колонне. Машинистов, которых почти не осталось в блокадном Ленинграде, находили на фронтах (многие, скрыв «бронь», ушли бить Гитлеру морду) и самолетами доставляли через линию фронта. Вчерашние школьницы — девчонки с косичками и комсомольскими значками на ватниках — работали сцепщицами, кондукторами, кочегарами…
В книге «Октябрьская фронтовая» (Лениздат, 1970) есть упоминание об отце. Как его бригада спасала горящий состав. Никогда ничего подобного от отца не слышал. И сестры, как оказалось, тоже. И вообще, выяснилось, что книга после смерти отца хранилась у старшей сестры Веры, но в нее не заглядывали. А отец молчал. Почему?
В коридоре Шлиссельбург — Поляны погибло 110 и ранено 175 железнодорожников. Немцы 1200 раз разрушали дорогу. По узкому коридору под обстрелами и бомбежками в осажденный Ленинград проследовало более 6 тыс. поездов.
Уже через две недели после прибытия в Ленинград первого поезда с Большой земли Военный совет Ленфронта принял постановление о повышении с 22 февраля 1943 года норм выдачи хлеба: рабочим и инженерно-техническим работникам — 600 г в день, а работающим на оборонных предприятиях — 700 г; служащим — 500 г; иждивенцам и детям до 12 лет — 400 г; учащимся ремесленных училищ и работникам больниц — 600 г. Ленинград сравнялся по хлебному пайку с Москвой.
Помимо увеличения хлебного пайка, в рацион ленинградцев включались продукты, присланные из разных регионов страны.
Сваи моста были вбиты в невское дно, после войны их ликвидировали взрывом, но что-то осталось, и совсем недавно они обнажились у правого берега Невы — явили себя как напоминание о тех временах.
5 июня 2004 г.
Сегодня на книжной ярмарке «Невский книжный форум» мне вручили литературную премию им. Н. Гоголя за книгу «Роман с героиней» (в номинации «За лучший семейный роман»).
Купил книгу «Нобелевская премия по литературе» (лауреаты 1901–2001). Нобелевские лекции всех лауреатов за сто лет существования премии.
Льву Толстому в 1902 году Нобелевку не дали — ибо, «некоторые взгляды русского писателя оказались для членов Нобелевского комитета неприемлемыми». И нобелеантом стал 85-летний немецкий историк Теодор Моммзен, автор «Истории Рима». Читал я этот нудный труд.
По одной версии «неприемлемые взгляды» Толстого до сих пор держатся в тайне. По другой — никаких особенно взглядов не было, просто Толстой отказался от премии, учрежденной изобретателем динамита и с простотой русского аристократа послал оргкомитет подальше: «Граф Толстой в ваших премиях не нуждается».
В «Неве» вышли «Записки ретроразведчика»! Купил пачку журналов и дарю. Почти семь лет ушло, чтобы собрать материалы и написать эту повесть. Думаю превратить ее в роман.
22 июля 2004 г. Зеленогорск.
Почти месяц просидел над рукописным архивом 48-й паровозной колонны особого резерва НКПС. Мария Ивановна дала мне две толстые папки с воспоминаниями колонистов, написанными уже после войны по просьбе председателя Совета ветеранов Жоры Полундры (политрука и начальника поезда Георгия Иосифовича Федорова). Во время войны никакие записи вести на железной дороге не разрешалось.
Мне их набрали, распечатали, и я принялся их слегка редактировать — исправлять опечатки, уточнять названия станций, городков…
Ужас и восторг охватывали душу, когда читал простые рассказы людей, прошедших блокаду и войну. Машинистов, кондукторов, путейцев, связистов, кочегаров — они были на военном положении, но считалось, что в боевых действиях участия не принимали. Их признали участниками боевых действий только в 1992 году, когда моего отца и многих других уже не было в живых. По их поездам били прямой наводкой, бомбили с воздуха, им нечем было ответить, у них в руках не было оружия, и потому «в военных действиях участия не принимал». Немцы, обстреливавшие синявинский коридор, считали, что поезда ведут смертники, выпущенные из тюрем.
Поехал к Даниилу Гранину в Комарово.
Сидели на большом крыльце его дачи, где стоят круглый столик, три кресла и диван. Рассказал о замысле повести, о том, как открылся мне материал.
Гранин помолчал, проникаясь доставшейся мне находкой. Выяснилось, что о «коридоре смерти» он слышит впервые. Он воевал на Ленинградском фронте, но в начале блокады, а потом отправился учиться в танковое училище.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: