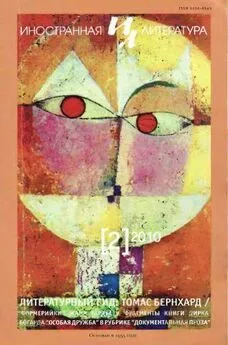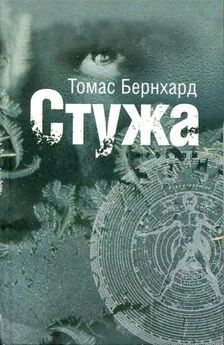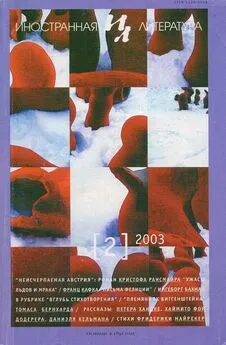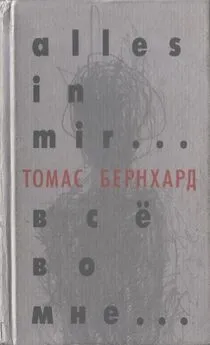мы с Вертхаймером несколько раз приходили; его не смущало, что бук, росший на могиле, отодвигал большую гранитную плиту, на которой были выбиты имена лежавших в склепе Вертхаймеров, и со временем отодвинул ее на десять или двадцать сантиметров; сестра все время пыталась заставить его выкорчевать бук и вернуть гранитную плиту на прежнее место, но ему-то совершенно не мешал тот факт, что бук вольно рос на могиле и мог отодвинуть гранитную плиту, напротив, каждый раз, когда он приходил к могиле, он с удивлением рассматривал бук и отодвинутую — с каждым разом все дальше — гранитную плиту. Теперь сестра выкорчует с могилы бук и поставит гранитную плиту на место, причем еще до того, как она
перевезет Вертхаймера в Вену и похоронит там. Из всех, кого я знал, Вертхаймер был самым страстным любителем прогулок по кладбищам — даже еще более страстным, чем я, думал я. Указательным пальцем правой руки я вывел большую букву «В» на пыльной дверце шкафа. При этом я вспомнил Дессельбрун, поймал себя на сентиментальной мысли, что, пожалуй, мне стоит еще разок съездить в Дессельбрун, и сразу же изничтожил эту мысль. Я хотел быть последовательным и сказал себе, что не поеду в Дессельбрун, что не поеду в Дессельбрун еще лет пять или шесть. Посещение Дессельбруна наверняка лишило бы меня сил на многие годы вперед, сказал я себе, я не могу позволить себе поехать в Дессельбрун. Вид из окна был безотрадный, удручающий: хорошо знакомый дессельбрунский ландшафт, который много лет назад ни с того ни с сего вдруг стал мне невыносим. Если бы я не уехал из Дессельбруна, сказал я себе, я бы погиб, меня бы больше не было на свете, я бы погиб, я бы умер
раньше Гленна и
раньше Вертхаймера, потому что ландшафт в Дессельбруне и его окрестностях — это гибельный ландшафт, как и вид из окна в Ванкхаме: угрожающий всем и медленно всех подавляющий, он никогда никого не ободрит, не приютит. Мы не в состоянии выбрать место своего рождения, думал я. Но мы можем покинуть это место, если оно грозит раздавить нас, можем уйти от хождения по кругу, которое, если мы пропустим момент начала этого хождения, нас погубит. Мне повезло, я ушел в подходящий момент, сказал я себе. В конце концов я ведь уехал из Вены именно потому, что Вена грозила загубить и изничтожить меня. Именно банковскому счету отца я обязан тем, что еще жив, тем, что мне
позволено существовать, сказал я вдруг себе. Губительная местность, сказал я себе. Тревожный ландшафт. Неприятные люди. Исподтишка подглядывающие за мной, думал я. Пугающие меня. Пытающиеся меня обмануть. В этих местах я никогда не чувствовал себя уверенно, подумал я. Меня постоянно преследовали болезни и в конце концов чуть не убила бессонница, думал я. Я вздохнул с облегчением, когда люди из Альтмюнстера приехали и забрали «Стейнвей», думал я, — тем самым они освободили меня от хождения по кругу в Дессельбруне. Ведь подарив рояль дочке учителя из Альтмюнстера, я, разумеется, не забросил искусство, что бы это слово ни означало, думал я. Я передал «Стейнвей» на попечение учительской мерзости, думал я, на попечение учительскому идиотизму. Если бы я сказал учителю, сколько на самом деле стоит мой «Стейнвей», он бы ужаснулся, думал я, а так он даже не имел представления о цене инструмента. Уже тогда, когда я поручил перевезти «Стейнвей» из Вены в Дессельбрун, я знал, что в Дессельбруне он долго не простоит, но я, естественно, не имел ни малейшего представления о том, что подарю его ребенку учителя, думал я. Пока у меня был «Стейнвей», я был несамостоятелен в своих сочинениях, думал я, — и не так свободен, как с той секунды, когда «Стейнвей» навсегда исчез из моего дома. Мне нужно было расстаться со «Стейнвеем», чтобы начать писать; сказать честно, я писал уже четырнадцать лет, но на самом деле писал ни на что не годные вещи, и все потому, что не мог расстаться со своим «Стейнвеем». Едва «Стейнвей» исчез из моего дома, я стал писать лучше, думал я. На Калле-дель-Прадо я все время думал о том, что «Стейнвей» стоит в Вене (или в Дессельбруне), и в итоге был не в состоянии написать что-нибудь более стоящее, чем и без того неудачные наброски. Едва я отринул от себя «Стейнвей», я стал писать по-другому — в тот же миг, думал я. Это, конечно, не значило, что вместе со «Стейнвеем» мне следовало бросить и музыку, думал я. Совсем наоборот. Но я больше не подчинялся ее разрушительной власти, просто больше она не причиняла мне боли, думал я. Когда мы всматриваемся в здешний ландшафт, нам становится страшно. Ни при каких условиях не хотим мы возвращаться в эти места. Все вокруг неизменно серое, и люди производят удручающее впечатление. Здесь я бы снова спрятался в своей комнате, и мне в голову не пришло бы ни одной полезной мысли, думал я. И я стал бы таким, как все они тут — достаточно посмотреть на хозяйку гостиницы, — меня бы совершенно испортила природа, безраздельно властвующая здесь над людьми, которым никогда уже не выбраться из пошлости и мерзости, думал я. Я бы погиб в этих зловещих местах. Мне вообще не следовало приезжать в Дессельбрун, думал я, мне не нужно было вступать во владение этим наследством, я бы мог от него отказаться
, нe трогать его, думал я. Дессельбрун был построен одним из моих прадедов, который был директором бумажной фабрики, — великолепный дом с множеством комнат для его многочисленных детей. Оставить там все как есть — в этом наверняка было мое спасение. Сначала я ездил в Дессельбрун с родителями каждое лето, потом стал жить там круглый год и ходил в школу в Ванкхаме, думал я, потом поступил в гимназию в Зальцбурге, потом — в Моцартеум, проучился год в Венской музыкальной академии, думал я, потом снова учился в Моцартеуме, вернулся в Вену и наконец пришел к мысли навсегда переехать в Дессельбрун, со всеми своими духовными запросами, но там я довольно быстро сорвался, почувствовал, что зашел в тупик. Карьера пианиста-виртуоза — как запасной выход; при этом, правда, я добился исключительного совершенства, думал я. На вершине, можно сказать, своего мастерства все бросил,
вышвырнул , как
надо признать, выкинул из головы, подарил свой «Стейнвей». Когда здесь шесть или семь недель кряду, не переставая, льет дождь и от этого непрерывного дождя люди сходят с ума, думал я, требуется собрать в кулак всю силу воли, чтобы не погибнуть. И все равно половина этих людей кончает самоубийством, рано или поздно, — тут они, как говорится, умирают не сами. У них нет ничего кроме католицизма или социалистической партии, двух самых отвратительных учреждений нашего времени. В Мадриде я по меньшей мере хотя бы раз в день выхожу из дома, чтобы поесть, думал я; здесь, находясь в состоянии поступательного и безнадежного саморазрушения, я бы ни за что не вышел из дома. Всерьез о продаже я никогда и не думал, конечно; я размышлял об этом, особенно в последние два года, но, естественно, безрезультатно. Тем не менее я никогда не обещал никому из нужных для этого дела людей
не продавать Дессельбрун, думал я. Без маклера недвижимость продать невозможно, а маклеры вызывают у меня отвращение, думал я: Такой дом, как в Дессельбруне, мы можем на долгие годы оставить стоять как есть, думал я, в запустении, — почему бы и нет. Я ни за что не поеду в Дессельбрун, думал я. Хозяйка гостиницы заварила мне чаю, и я спустился в холл. Я сел за стол у окна, за который я всегда садился в прежние годы, но впечатления, будто время остановилось на месте, у меня не было. Я слышал, как хозяйка гостиницы возится на кухне, и думал, что она, вероятно, готовит еду своему ребенку, который в час или в два вернется из школы домой, — разогревает гуляш или варит овощной суп. В теории мы понимаем людей, а на практике мы их не выносим, общаемся с ними в основном без всякого желания и смотрим на них со своей колокольни. Мы не должны так обращаться с людьми и не должны смотреть на них со своей колокольни, нам следует рассматривать их со всех точек зрения, думал я, — общаться с ними таким образом, чтобы потом мы могли сказать, что, дескать, общались с ними совершенно без предубеждения, чего, конечно, не выйдет, так как в действительности мы ко всем относимся с предубеждением. Хозяйка гостиницы ведь тоже когда-то страдала легочной болезнью, как и я, думал я, но она смогла вытеснить, устранить свою легочную болезнь, подавить ее силой воли к жизни. С грехом пополам, как говорится, она закончила восьмилетку, думал я, а потом взяла в свои руки управление гостиницей, которая принадлежала ее дяде, оказавшемуся замешанным в убийстве, обстоятельства которого до конца не прояснены и по сей день, и приговоренному к двадцати годам тюрьмы. Вместе с соседом ее дядя якобы задушил представителя венской фирмы по торговле так называемой
галантереей , остановившегося в гостинице на ночлег в номере рядом с моим номером, — задушил, чтобы завладеть огромной суммой, которую венский коммивояжер имел при себе. О «Дихтельмюле», как гостиница называется, после этого убийства пошла, так сказать, дурная слава. В первое время, то есть сразу после того, как факт убийства всплыл на поверхность, дела «Дихтельмюле» пошли хуже некуда, и гостиница больше двух лет простояла закрытой. «Дихтельмюле» по суду отдали племяннице убийцы, думал я, а племянница снова открыла «Дихтельмюле» и стала вести дела, но после того, как гостиница вновь открылась, «Дихтельмюле», естественно, уже не была той же «Дихтельмюле», что до убийства. О дяде хозяйки с тех пор больше ничего не слышали, думал я, но он, вероятно, как и все убийцы, приговоренные к двадцати годам тюрьмы, вышел из заключения уже через двенадцать или тринадцать лет, а может, его вообще больше нет в живых, думал я, и я совершенно не намеревался справляться у хозяйки про ее дядю, так как у меня не было никакого желания снова целиком выслушивать всю эту историю с убийством, которую хозяйка гостиницы рассказывала мне по моей просьбе уже несколько раз. Убийство венского коммивояжера наделало тогда много шуму, и о процессе писали все газеты, и «Дихтельмюле», в то время опечатанную, неделями осаждали любопытные, хотя в «Дихтельмюле» и смотреть-то было не на что. «Дихтельмюле» с тех пор так и называют
домом, где произошло убийство, и, если люди хотят сказать, что идут
в «Дихтельмюле», они говорят, что идут
в дом, где произошло убийство, так уж повелось. Судебное дело строилось на косвенных уликах, думал я, и в действительности причастность дяди хозяйки и причастность его сообщника, на семью которого это дело, как говорится, навлекло большую беду, так и не доказали. Соседа, так называемого дорожного рабочего, даже суд посчитал неспособным на такое подлое убийство, а особенно — в сговоре с дядей хозяйки, которого везде и всегда характеризовали как человека
добродушного и скромного, положительного совершенно во всех отношениях и которого до сих пор все, кто его знал, вспоминают как человека приветливого и скромного, положительного во всех отношениях; но присяжные приговорили к высшей мере наказания не только дядю, но и дорожного рабочего, который между тем, как я знаю, уже давно умер, впав в отчаяние оттого, что, как все время повторяла его жена, совершенно невиновные люди становятся жертвами присяжных-человеконенавистников. Суды, даже когда они уничтожают невиновных людей и их семьи, следуют букве закона, думал я, а присяжные каждый раз выносят свое решение, поддавшись мимолетному настроению, — но при этом они всегда руководствуются безудержной ненавистью к себе подобным; всегда, даже если уже давно поняли, что в неискупимом на самом деле преступлении обвиняется невиновный, они быстро выносят ошибочное решение, и точка. Половина всех приговоров, принятых на основе решений присяжных, — это, с позволения сказать, ошибочные приговоры, и я абсолютно уверен, что приговор по так называемому
дихтельмюлевскому делу был на все сто процентов вынесен на основе ошибочного решения присяжных. Так называемые австрийские окружные суды прославились тем, что присяжные в них годами выносили десятки ошибочных решений, и теперь на их совести жизни десятков невинных людей, которые отсиживают пожизненный срок, не имея ни малейшего шанса быть когда-нибудь, как говорится,
реабилитированными . Да и вообще, думал я, в наших тюрьмах и прочих местах заключения сидит намного больше невинных, чем виновных, потому что у нас слишком много недобросовестных судей и присяжных-человеконенавистников, которые ненавидят себе подобных и вымещают злобу и обиды за собственное несчастье на тех, кто после всех ужасных событий, доведших их до суда, попал к ним в руки. Австрийская судебная система жестока, думал я: каждый раз, когда мы внимательно читаем газеты, мы это понимаем, но вообще-то наверняка она еще более жестока, ведь мы знаем, что лишь малая толика ее преступлений предается огласке. Лично я убежден, что дядя хозяйки совсем не тот убийца, или, лучше сказать, не тот пособник, каким его признали тринадцать или четырнадцать лет назад, думал я. Дорожного рабочего я тоже считаю фактически невиновным, мало того, я очень хорошо помню газетные репортажи об этом процессе; так вот, по сути, их обоих — и дядю хозяйки гостиницы, так называемого хозяина Дихтеля, и его соседа, дорожного рабочего, — должны были бы безоговорочно признать невиновными, в конце концов на этом настаивал даже прокурор, но присяжные вынесли решение, что это был преступный сговор и преднамеренное убийство, и поэтому хозяин Дихтель сгинул в тюрьме Гарстен вместе с дорожным рабочим, думал я. И если ни у кого не найдется мужества, сил и денег, чтобы попытаться, как говорится, пересмотреть такое вот ужасное судебное дело, то подобное ошибочное решение, как, например, в случае с хозяином Дихтелем и дорожным рабочим, останется в силе — какая ужасная несправедливость по отношению к двум на самом деле невиновным людям, с которыми в итоге никто, то есть общество, никогда не захочет иметь никаких дел, а виноват или невиновен, это уже не будет играть никакой роли. Мне вспомнился дихтельмюлевский процесс, как его называли, и он занимал меня все время, пока я сидел за столом у окна, потому что мой взгляд упал на фотографию, которая висела на стене напротив и изображала хозяина Дихтеля в переднике и с трубкой, и я подумал, что хозяйка гостиницы, вероятно, повесила эту фотографию на стене не только из благодарности к своему дяде за «Дихтельмюле», а следовательно, и за средства к существованию, но и для того, чтобы не дать предыдущему хозяину окончательно кануть в Лету. А ведь большинство людей, действительно и серьезно интересовавшихся дихтельмюлевским процессом, уже давно умерли, думал я, и ныне живущим нет до этой фотографии никакого дела. Но за «Дихтельмюле» вне всякого сомнения закрепилась репутация места, где было совершено особо тяжкое преступление, думал я, а такая репутация, что естественно, привлекает людей. Мы не без удовольствия смотрим на то, как людей берут под подозрение, и обвиняют, и сажают в тюрьму, думал я, — это правда. Нам нравится, когда преступления становятся достоянием гласности, думал я, глядя на фотографию на стене напротив. Спрошу-ка хозяйку, когда она снова выйдет из кухни, что случилось с ее дядей, подумал я и сказал себе еще раз: я ее спрошу об этом; и еще раз: я спрошу ее об этом, я ее спрошу, нет, я не стану ее спрашивать; и я пристально рассматривал фотографию хозяина Дихтеля и думал, что я расспрошу о нем хозяйку, нет, я не стану ее расспрашивать о нем и так далее. Так называемого простого человека — который, конечно же, никогда не бывает простым — неожиданно вырывают из его привычного окружения, практически сразу же бросают в тюрьму, думал я, из которой он выходит, если вообще выходит, нужно сказать, совершенно уничтоженным человеком, калекой по вине правосудия, и в этом, в итоге, виновато все общество. Мало того, сразу же по окончании процесса в газетах поднимался вопрос о том, виноваты ли хозяин Дихтель и дорожный рабочий на самом деле, и на эту тему даже печатались соответствующие комментарии, но прошло всего два-три дня после окончания процесса, и о дихтельмюлевском деле перестали писать. Из комментариев как будто следовало, что те двое, заклейменные убийцами и приговоренные судом,
могли вообще не совершать этого преступления, что его, должно быть, совершило некое третье лицо или несколько лиц, но присяжные, разумеется, уже вынесли свое решение, и после этого дело больше не пересматривалось, думал я, на самом деле лишь немногое занимало меня в жизни так же сильно, как уголовно-правовая сторона нашего мира. Если мы начнем внимательно следить за уголовно-правовой стороной нашего мира, то есть нашего общества, то мы, как говорится, каждый день будем обнаруживать диковинные вещи. Когда хозяйка гостиницы с утомленным видом вышла из кухни и присела за мой стол — она, мол, стирала белье и дышала кухонным чадом, — я все-таки спросил ее, что же случилось с ее дядей, хозяином Дихтелем, задав этот вопрос, конечно, не в лоб, а весьма деликатно. Ее дядя уехал в Хиршбах, сказала она, Хиршбах — местечко на чешской границе, сама она была там только раз, но это было очень и очень давно, ее сыну тогда только исполнилось три года. Она решила показать своего сына дяде в надежде, что дядя, про которого она думала, что у него еще остались деньги, поможет ей справиться с ее бедственным положением, то есть даст денег, только поэтому она и отважилась на утомительную поездку с сыном в Хиршбах на чешской границе, через полгода после смерти мужа, отца ее ребенка, выросшего, вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам, физически хорошо развитым. Но дядя даже не захотел ее видеть, велел брату сказать, что его нет дома, и вообще не появился, пока она с сыном не устала его ждать и не отправилась в Ванкхам, так ничего и не добившись. Как человек может быть таким жестоким, сказала она, — правда, с другой стороны, она дядю понимает. Он и слышать больше не хотел ни о «Дихтельмюле», ни о Ванкхаме, сказала она. Побывавшие в тюрьме, — неважно, сколько времени они там провели, — выйдя на свободу, никогда не возвращаются туда, откуда они родом, сказала она. Хозяйка гостиницы надеялась, что или этот дядя, или другой ее дядя, так называемый дядя из Хиршбаха, помогут ей деньгами, но она не дождалась от них никакой помощи, и это-то от тех двоих людей, которые были и до сих пор остаются ее единственными родственниками и про которых она знает, что они хотя и живут в стесненных условиях, тем не менее владеют немалым состоянием — хозяйка гостиницы даже намекнула каким, по ее соображениям, состоянием владеют оба ее дяди, хотя и не назвала точной суммы; трогательно ничтожное состояние, думал я, однако ей, хозяйке, оно, должно быть, казалось огромным, раз она решилась просить о помощи, думал я. Все старики скупые, даже когда они уже совсем ни в чем не нуждаются, чем больше они стареют, тем более скупыми они становятся, не выпускают из рук ни гроша, а их отпрыски пусть хоть с голоду умирают у них на глазах, это их ничуть не смутит. Потом хозяйка гостиницы рассказала о своей поездке в Хиршбах, и как хлопотно было добираться от Ванкхама до Хиршбаха, она с больным ребенком на руках сделала три пересадки, а поездка в Хиршбах не только не принесла ей денег, она вдобавок еще и ангиной заболела, тяжелой ангиной, на несколько месяцев, сказала она. После поездки в Хиршбах она решила было снять фотографию дяди со стены, но потом все-таки не сняла, из-за клиентов, которые наверняка бы стали расспрашивать ее, почему она сняла со стены фотографию, а у нее нет никакого желания снова и снова всем подряд пересказывать эту историю, сказала она. Потому что тогда все сразу же захотели бы узнать абсолютно все о процессе, сказала она, а об этом ей говорить не хотелось. Факт, однако, в том, что
до поездки в Хиршбах она любила своего дядю, изображенного на фотографии, а
после того, как вернулась из Хиршбаха, она его ненавидит. Она во всем шла навстречу дяде, а он не помог ей ни в чем. В конце концов, ведь именно
она стала вести дела в «Дихтельмюле», и вновь открыла гостиницу, сказала она, при неблагоприятных обстоятельствах, и не дала этому дому прийти в запустение, и не продала, хотя у нее, конечно же, было предостаточно возможностей. Ей кажется, что ее мужу не очень нравилось гостиничное дело, они познакомились на масленицу в Регау, куда она отправилась, чтобы купить для своей гостиницы несколько старых кресел, их по бросовой цене отдавала одна тамошняя гостиница. Она сразу же увидела: вот сидит добропорядочный человек, без компании, совсем один. Она села за его стол и потом увезла его с собой в Ванкхам, так он здесь и остался. Да вот хозяином он так и не сделался, сказала она. Все замужние женщины здесь — она на самом деле употребила словосочетание
замужние женщины, — на самом деле все замужние женщины здесь всегда должны брать в расчет, что их мужья свалятся в бумажную мельницу, или что бумажная мельница по меньшей мере оторвет им руку или несколько пальцев, сказала она, здесь, по сути, не проходит и дня, чтобы бумажная мельница кого-нибудь не изувечила, и, конечно, здесь куда ни глянь — только одни изувеченные бумажными мельницами мужчины. Девяносто процентов всех здешних мужчин работают на бумажной фабрике, сказала она. И своих детей все здешние тоже отправляют, как те подрастут, на бумажную фабрику, сказала она, — из века в век так уж заведено, подумал я. А когда бумажная фабрика прекратит свое существование, сказала она, все здесь замрет. Это вопрос самого ближайшего времени,
когда фабрику закроют, думает она, об этом все говорят, бумажная фабрика — государственное предприятие, и ее скоро должны закрыть, потому что, как и все государственные предприятия, фабрика имеет миллиардные долги. Здесь все строилось под бумажную фабрику, и, если ее закроют, всему тут конец. С самой хозяйкой тоже все будет кончено, потому что ее клиенты на девяносто процентов — рабочие с бумажной фабрики, сказала она, рабочие с бумажной фабрики хотя бы тратят деньги, сказала она, а лесорубы нет, а еще — может раз, самое большее два раза в год — к ней заходят несколько крестьян, но крестьяне избегают «Дихтельмюле» с тех пор, как был процесс, они сюда не ходят, а если и зайдут, то задают неприятные вопросы, сказала она. О безысходном будущем она давно не думает, ей все равно, что будет, — в конце концов ее сыну уже двенадцать, а в четырнадцать, как заведено в этих местах, он, конечно, сам уже будет стоять на ногах. Меня вообще не интересует будущее, сказала она. Господин Вертхаймер, сказала она, всегда был у нее
желанным гостем. Но такие
благородные господа и не ведают, что значит жить, как живет она, каково управлять такой гостиницей, как «Дихтельмюле». Они (благородные господа!) вечно говорят лишь о своих непонятных делах, им вообще не о чем беспокоиться, и они тратят все свое время лишь на то, чтобы придумать, что бы им еще сделать со своими деньгами и со своим временем. Ей лично никогда не хватало ни денег, ни времени, но она никогда не считала себя совсем несчастной — в отличие, она подчеркнула, от
благородных господ, которым всегда хватает денег и времени, но которые постоянно твердят о своем несчастье. Ей совершенно непонятно, почему Вертхаймер все время говорил ей, что он несчастный человек. Он нередко засиживался в холле до часу ночи и без конца плакался ей, и она его жалела, как она сказала, и поднималась с ним в номер, потому что ночью он уже не хотел возвращаться в Трайх. Такие люди, как господин Вертхаймер, имеют ведь все возможности для того, чтобы быть счастливыми, но никогда эти возможности не используют, сказала она. Такой великолепный дом — и столько несчастья, и все для одного человека, сказала она. По сути, самоубийство Вертхаймера не стало для нее неожиданностью, но он не имел права этого делать, так вот назло повеситься в Цицерсе на дереве перед домом сестры, этого я ему не прощу. Она сказала
господин Вертхаймер взволнованно и одновременно с отвращением.
Однажды я попросила у него денег, но он мне не дал, сказала она,
мне пришлось взять кредит, чтобы купить новый холодильник. Богатые люди становятся неприступными, сказала она,
если речь заходит о деньгах. При этом Вертхаймер запросто выбрасывал на ветер миллионы. Обо мне она думает так же, как о Вертхаймере: состоятельный, богатый, конечно же, и бесчеловечный, потом она непринужденно добавила, что все состоятельные и богатые бесчеловечны. А что,
она сама человечна? — спросил я ее, но на это она мне ничего не ответила. Она встала и пошла к развозчикам пива, остановившим свой грузовик перед гостиницей. Сказанное хозяйкой заставило меня призадуматься, и по этой причине я не поднялся из-за стола в ту же минуту, чтобы пойти в Трайх, а остался сидеть, чтобы понаблюдать за развозчиками пива, но в первую очередь за хозяйкой, которая несомненно находилась с ними в интимных отношениях, как и со всеми, кто часто бывал у нее в гостинице. С самого детства меня завораживали развозчики пива, они завораживают меня и по сей день. Я думал о том, как они выгружают пивные бочки и катят их перед собой по вестибюлю, а потом открывают бочку и наливают первую кружку хозяйке, чтобы потом сесть с ней за один стол. Ребенком я хотел стать развозчиком пива, любовался развозчиками пива, думал я, — не мог оторвать от развозчиков пива глаз. Этому детскому чувству я снова поддался теперь, сидя за соседним с ними столом и наблюдая за ними, но я не дал этому чувству волю, а встал и вышел из «Дихтельмюле» и пошел в Трайх, не забыв сказать хозяйке, что вечером или даже раньше,
смотря по обстоятельствам, вернусь и буду у нее ужинать. Уходя, я услышал, как развозчики пива спросили хозяйку, кто я такой, и, поскольку у меня великолепный, как ни у кого другого, слух, я услышал, что она прошептала им мое имя и добавила: я, дескать, друг Вертхаймера, того самого дурака, который покончил с собой в Швейцарии. По сути, я бы предпочел и дальше сидеть в трактире и слушать разговоры развозчиков пива и хозяйки вместо того, чтобы идти в Трайх, думал я, когда уходил, а еще лучше было бы подсесть к развозчикам пива и пропустить с ними по кружке. Мы часто представляем себе, как сидим за одним столом с теми, к кому всю жизнь испытывали симпатию, пускай даже с так называемыми простыми людьми, которых, что естественно, мы представляем себе иначе, чем они есть на самом деле, ведь если мы на самом деле сядем рядом с ними, то увидим, что они совершенно не такие, как мы о них думали, и что мы абсолютно к ним не относимся, хотя и убеждали себя в обратном, и что за их столом и среди них мы получаем один ужасный удар за другим и потом долго еще переживаем, а все потому, что подсели к ним за стол и верили, что мы такие же, как они, — впрочем, к ним можно безнаказанно подсесть, но ненадолго, хотя и это большое заблуждение, думал я. Всю жизнь нас тянет к этим людям, и мы хотим к ним, но мы, коли наше желание сбудется, будем отвергнуты ими, причем самым грубым образом. Вертхаймер часто живописал, как он терпел неудачи, желая побыть вместе с так называемым простым людом, то есть с так называемым простым народом, — стать его частью; он рассказывал о том, как приходил в «Дихтельмюле», чтобы посидеть за одним столом с народом и лишь для того, чтобы сразу же после первой попытки в этом направлении осознать, что думать, будто такие люди, как он, Вертхаймер, или как я, могут просто так сидеть за одним столом с народом — это заблуждение. Такие люди, как мы, наперед исключили для себя возможность сидеть за одним столом с народом, сказал он, насколько я помню, — мы-то ведь родились за совершенно другим столом, сказал он, не за столом народа. Но таких людей, как мы, естественно, все время привлекает стол народа, сказал он. Хотя за столом народа нам ловить нечего, сказал он, как я помню. Быть развозчиком пива, думал я, день за днем грузить и разгружать бочки с пивом и катить их по вестибюлям трактиров Верхней Австрии, и без конца сидеть со всеми этими опустившимися хозяйками гостиниц, и каждый день от усталости замертво валиться в кровать — тридцать, сорок лет подряд. Я глубоко вздохнул и быстрым шагом пошел по направлению к Трайху. В деревне мы сталкиваемся с самыми неразрешимыми мировыми проблемами всех времен и даже будущего, причем сталкиваемся еще более решительным образом, нежели в городе, где мы, конечно, если захотим, можем существовать совершенно анонимно, думал я, мерзости и ужасы в деревне бьют нас
прямо по лицу, и мы не можем с ними сладить, и эти мерзости и ужасы, если мы живем в деревне, очень быстро нас погубят, ничего не изменилось, думал я, с тех пор как я отсюда уехал. Если я вернусь в Дессельбрун, то обязательно умру, о том, чтобы вернуться в Дессельбрун, не может быть и речи; даже через пять, через шесть лет, сказал я себе, я туда не вернусь, и чем дольше я живу за границей, тем важнее держаться подальше от Дессельбруна, оставаться в Мадриде или каком-нибудь другом большом городе, сказал я себе, только не жить в деревне и никогда-никогда — в деревне верхнеавстрийской, думал я. Было холодно и ветрено. Совершенное безумие — отправиться в Трайх, сойти в Атнанг-Пуххайме, пойти в Ванкхам, и что мне ударило в голову? В этих местах Вертхаймер
не мог не помешаться и в конце концов совсем сойти с ума, сказал я, и я сказал себе, что он всегда был именно
тем Пропащим, о котором говорил Гленн Гульд; Вертхаймер был типичным человеком тупика, сказал я себе, из одного тупика он снова и снова уверенно забредал в другой тупик, потому что Трайх всегда был для него тупиком, таким же, каким потом стали Вена и, разумеется, Зальцбург, потому что Зальцбург был для него не чем иным, как одним-единственным тупиком, и Моцартеум был тупиком, таким же, как Венская музыкальная академия, и вся учеба по классу рояля была тупиком, и вообще такие люди всегда имеют выбор лишь между одним тупиком и другим, сказал я себе, — не имея ни малейшего шанса вырваться из этого лабиринта, состоящего из тупиков.
Пропащий был рожден пропащим, думал я,
он всегда был пропащим, и если мы внимательно понаблюдаем за окружающими, то обнаружим, что окружающий нас мир состоит исключительно из таких вот пропащих, сказал я себе, из таких вот людей тупика, как Вертхаймер, в котором Гленн Гульд с первого же взгляда распознал человека тупика, распознал в нем пропащего, и Гленн Гульд с самого начала назвал его
Пропащим , назвал в своей резкой, но абсолютно открытой канадско-американской манере, потому что Гленн Гульд, соврешенно не стесняясь, произносил вслух то, о чем другие
тоже думали, но что они никогда не произносили вслух, потому что им не была присуща эта резкая и открытая, но здоровая американо-канадская манера, сказал я себе, все они между тем всегда видели в Вертхаймере
пропащего , но не решались тоже называть его
Пропащим , хотя, возможно, им просто не хватило фантазии на эту меткую характеристику, думал я, родившуюся в голове Гленна Гульда в тот самый момент, когда он в первый раз увидел Вертхаймера, — проницательную характеристику, нужно сказать, он даже не стал к нему присматриваться, он сразу додумался до клички
Пропащий , в отличие от меня, которому понятие "человек тупика" пришло в голову лишь спустя годы долгих наблюдений за Вертхаймером и после тесного общения с ним. Нам без конца приходится иметь дело с такими вот пропащими, с такими людьми тупика, сказал я себе и быстро зашагал навстречу ветру. Нам приходится прилагать все усилия, чтобы спастись от таких вот пропащих и людей тупика, эти люди тупика делают все возможное, чтобы тиранить окружающих, умерщвлять ближних, сказал я себе. Они слабые — и именно потому, что они сконструированы и сделаны такими слабыми, у них есть силы оказывать губительное воздействие на окружающих, думал я. Они действуют на окружение и на ближних с еще большей беспощадностью, нежели мы могли себе поначалу представить, и когда мы попадаем в зону их воздействия, когда мы попадаем под влияние изначально свойственного им механизма пропащего человека, механизма человека тупика, то зачастую бывает уже слишком поздно, чтобы от них убежать, они тянут нас на дно, как только могут, изо всех сил, сказал я себе, им сгодится любая жертва, пусть это даже их собственная сестра, думал я. На своем несчастье, на своем механизме пропащего они наживают огромный капитал, сказал я себе, приближаясь к Трайху, — даже если этот капитал, что само собой разумеется, в конце концов оказывается им совершенно не нужен. Вертхаймер всегда воспринимал жизнь, исходя из неверных предпосылок, сказал я себе, — в отличие от Гленна, который всегда подходил к существованию, исходя из правильных предпосылок. Вертхаймер позавидовал даже смерти Гленна Гульда, сказал я себе, он не мог вынести смерть Гленна Гульда, вскоре после которой покончил с собой, и, по правде сказать, решающим фактором в его самоубийстве был не побег сестры в Швейцарию, а невыносимость того факта, что Гленна Гульда на самой вершине мастерства, как говорится, хватил удар. Сначала Вертхаймер не мог вынести того, что Гленн Гульд играл на рояле лучше, чем он, что он неожиданно стал гением Гленном Гульдом, думал я, и к тому же знаменитым на весь мир, а потом не вынес того, что Гленн достиг пика своего гения, своей славы — и в это время его хватил удар, думал я. Тогда Вертхаймеру оставалась только собственная смерть, собственноручная смерть, думал я. В приступе мании величия он сел в поезд до Кура, сказал я себе, и отправился в Цицерс, и повесился перед домом Дутвайлеров, безо всякого стыда. И о чем бы я стал говорить с Дутвайлерами? — спросил я себя и сразу же ответил, громко произнеся вслух:
да ни о чем. Следовало ли мне сказать его сестре, что я действительно думаю и думал о Вертхаймере, ее брате? — думал я. Это было бы самой большой нелепостью, сказал я себе. Своей болтовней я бы им только надоел, а мне это тоже было бы ни к чему. И все же надо было отклонить приглашение Дутвайлеров на обед в более вежливом тоне, думал я теперь, на самом деле я отклонил их приглашение не просто в невежливом, но даже в непозволительном тоне, резко, обидно, и теперь мне это казалось несправедливым. Мы действуем несправедливо, обижаем людей, а все для того, чтобы избежать исключительного напряжения, неприятной встречи лицом к лицу, думал я, ведь встреча лицом к лицу с Дутвайлерами после похорон Вертхаймера была бы, конечно, какой угодно, но только не приятной, я бы снова высказал все, а этого было бы лучше не высказывать, высказал бы все по поводу Вертхаймера и высказал бы при этом в несправедливой и неточной манере, ставшей для меня фатальной, одним словом, с предельной субъективностью, которую я сам всегда ненавидел, но от которой я никогда не был застрахован. Да и Дутвайлеры наверняка уже сделали собственные выводы о мотивах Вертхаймера, из которых тоже сложился его неверный и несправедливый портрет, сказал я себе. Мы выставляем людей в ложном свете и судим о них, мы судим о них несправедливо и выставляем их гнусными, сказал я себе, — в любом случае, все равно, в каком свете мы их выставляем, все равно, как мы о них судим. Такого рода обед в Куре с Дутвайлерами привел бы лишь к недоразумению и в конце концов поверг бы обе стороны в отчаяние, думал я. Так что очень хорошо, что я отклонил их приглашение и сразу же поехал обратно в Австрию, думал я, хотя и не надо было выходить в Атнанг-Пуххайме, надо было сразу вернуться в Вену, пойти к себе, переночевать — и в Мадрид, думал я. Я не прощу себе сентиментальности, связанной с этой остановкой в Атнанг-Пуххайме, не прощу себя за отвратительную ночевку в Ванкхаме, которая мне потребовалась, чтобы осмотреть оставленный Вертхаймером Трайх. По крайней мере, мне следовало хотя бы справиться у Дутвайлеров, есть ли кто сейчас в Трайхе, потому что по дороге в Трайх у меня не было ни малейшего представления о том, кто сейчас в Трайхе, ведь на слова-то хозяйки я положиться не мог, она слишком много болтает, думал я, и, как все хозяйки гостиниц, несет околесицу, все вокруг да около. Конечно, может случиться так, что Дутвайлеры сами уже в Трайхе, думал я; было бы делом совершенно само собой разумеющимся, если бы они выехали из Кура в Трайх не вечером, как это сделал я, а еще днем или вообще утром. Ведь кому же еще распоряжаться в Трайхе, думал я, если не сестре, которой теперь, когда Вертхаймер мертв и похоронен в Куре, больше не нужно его бояться. Ее мучитель мертв, думал я, ее изничтожитель умер, его больше нет, он никогда больше не будет предъявлять ей претензий. Как всегда, я и сейчас преувеличиваю, и мне самому было неловко перед собой за то, что я ни с того ни с сего неожиданно назвал Вертхаймера мучителем и изничтожителем сестры, вот так, думал я, я всегда поступаю с другими — несправедливо, даже преступно. Я всегда страдал оттого, что был ко всем несправедлив, думал я. Господин Дутвайлер, который был мне отвратителен с первого взгляда и который, вполне возможно, как я теперь думал, совершенно не такой отвратительный, наверняка не проявляет к Трайху никакого интереса, ни малейшего интереса к вертхаймеровским интересам, сказал я себе, — он так, только одним глазком взглянет, словно наследство, оставленное Вертхаймером в Трайхе и Вене, его вообще не интересует, думал я, если уж на то пошло, господин Дутвайлер проявляет интерес лишь к оставленным Вертхаймером деньгам, а остальное вертхаймеровское наследство ему не интересно, но сестра, должно быть, очень им интересуется, я ведь и представить не мог, думал я, что она так решительно и окончательно расстанется с братом, выйдя замуж за Дутвайлера; что ей безразлично наследие брата — совсем наоборот, предположил я, именно сейчас, отпущенная, так сказать, на свободу вследствие демонстративного самоубийства брата, она сразу же и очень активно начнет интересоваться всем вертхаймеровским наследством, которым она до сих пор не интересовалась, и вполне возможно, что она даже проявит интерес к так называемому
гуманитарному наследию брата. Мысленным, как говорится, взором я увидел, как она склоняется над тысячами, если не сотнями тысяч каталожных карточек и внимательно их изучает. А потом я снова подумал о том, что Вертхаймер, и это было бы вполне в его духе, не оставил ни одной карточки в качестве так называемого литературного наследия, которому он не придавал ни малейшего значения, по крайней мере, именно это я всегда от него слышал, хотя я и не уверен в том, что он не шутил, думал я. Ведь очень часто люди, создающие творения духа, говорят, что не придают им никакого значения, а сами, напротив, придают им огромное значение, только не признаются в этом, ведь они стыдятся своей зависимости от творчества и разносят свои труды в пух и прах, чтобы хоть на публике им не было стыдно; Вертхаймер, возможно, тоже пользовался этим обманным маневром, когда речь заходила о его так называемых гуманитарных науках, думал я, это было бы в его духе. Тогда мне на самом деле нужно бы ознакомиться с результатами его умственного труда, думал я. Внезапно стало так холодно, что мне пришлось поднять воротник пальто. Мы все время задаемся вопросом о причинах и постепенно переходим от одного варианта к другому, думал я, не смерть Гленна была истинной причиной смерти Вертхаймера, думал я все время, и не тот факт, что сестра Вертхаймера уехала к Дутвайлеру в Цицерс. Причина, как говорят, всегда лежит намного глубже, причина кроется в «Гольдберг-вариациях», которые Гленн играл в классе Горовица в Зальцбурге:
"Хорошо темперированный клавир" — вот причина, думал я, а не тот факт, что сорокашестилетняя сестра Вертхаймера рассталась с братом. В действительности сестра Вертхаймера не виновата в его смерти, думал я, Вертхаймер хотел взвалить всю вину за свое самоубийство на сестру, чтобы отвлечь внимание от того факта, что не что иное, как «Гольдберг-вариации» и "Хорошо темперированный клавир", исполняемые Гленном, виноваты и в его самоубийстве, и в его жизненной катастрофе вообще. Однако началом катастрофы для Вертхаймера был миг, когда Гленн назвал Вертхаймера
Пропащим , то, что Вертхаймер всегда знал, было произнесено Гленном совершенно неожиданно и, нужно сказать, непредвзято, на американо-канадский манер; Гленн
своим Пропащим сразил Вертхаймера насмерть, думал я, — и не потому, что Вертхаймер услышал такое понятие вообще в первый раз, а потому, что,
не зная слова «пропащий», он хорошо знал, что это понятие означает, Гленн же Гульд
произнес слово «пропащий» в решающий момент, думал я. Мы говорим слово и уничтожаем человека, и при этом уничтоженный нами человек в тот миг, когда мы произносим уничтожающее его слово, даже не знает об этом смертоносном факте, думал я. Этот человек и не догадывается, что он лицом к лицу столкнулся со смертоносным словом, обозначающим смертоносное понятие, и о смертельном воздействии этого слова и понятия он тоже не догадывается, думал я. Вообще-то Гленн сказал Вертхаймеру слово
пропащий еще до того, как начались занятия у Горовица, думал я, я даже мог бы определить точно час, когда Гленн сказал Вертхаймеру слово
пропащий . Мы говорим человеку смертоносное слово и в тот момент, что естественно, не осознаем, что на самом деле мы сказали ему смертоносное слово, думал я. Спустя двадцать восемь лет после того, как в Моцартеуме Гленн сказал Вертхаймеру, что тот —
пропащий , и через двенадцать лет после того, как он сказал ему то же самое слово в Америке, Вертхаймер покончил с собой. Самоубийцы смехотворны, часто говорил Вертхаймер; те, кто вешается, — самые противные, это тоже он сказал, думал я; теперь-то, естественно, заметно, что он очень часто говорил о самоубийстве, но при этом он, нужно сказать, всегда так или иначе над самоубийцами посмеивался, всегда говорил о самоубийстве и самоубийцах так, будто его не касалось ни то ни другое, будто ни о том ни о другом для него самого и речи не идет. Он часто повторял, что это
я потенциальный самоубийца, вспоминал я по дороге в Трайх, что
я в опасности, а не он. И сестру он тоже считал способной на самоубийство — вероятно, потому, что он лучше других знал ее настоящее положение, он как никто другой рассчитывал на абсолютную безысходность ее положения, потому что думал, что видит, как он часто говорил, свое творение насквозь. А сестра вместо того, чтобы покончить с собой, убежала к Дутвайлеру в Швейцарию, вышла замуж за господина Дутвайлера, думал я… И в итоге Вертхаймер покончил с собой тем самым способом, который он всегда считал отвратительным и противным, и назло сделал это в Швейцарии; его сестра вместо того, чтобы покончить с собой, поехала в Швейцарию, связала себя узами брака с богачом Дутвайлером, владельцем химического концерна, а сам Вертхаймер туда поехал, чтобы повеситься на дереве в Цицерсе, думал я. Он хотел учиться у Горовица, думал я, и был уничтожен Гленном Гульдом. Гленн умер в
идеальный для него момент времени, но Вертхаймер покончил с собой не в самый идеальный для себя момент, думал я. Если я взаправду еще раз попробую сесть за жизнеописание Гленна Гульда, думал я, мне придется включить туда и то, как описывал
его Вертхаймер, а тогда уже станет непонятно, кто будет в центре этого описания, Гленн Гульд или Вертхаймер, думал я. Я начну с Гленна Гульда, с «Гольдберг-вариаций» и "Хорошо темперированного клавира", но я думаю, что Вертхаймеру в этом описании будет принадлежать главная роль, потому что для меня Гленн Гульд всегда был связан с Вертхаймером, все равно в какой связи, и наоборот, Вертхаймер был связан с Гленном Гульдом, но в целом, наверное, Гленн Гульд имел для Вертхаймера большее значение, нежели наоборот. На самом деле исходным пунктом стали занятия у Горовица, думал я, дом скульптора в Леопольдскроне, тот факт, что двадцать восемь лет назад мы, совершенно не зная друг друга, двинулись навстречу друг другу, думал я, и это было судьбоносно. Вертхаймеровский «Бёзендорфер» против «Стейнвея» Гленна Гульда, думал я.
"Гольдберг-вариации" Гленна Гульда прошив "Искусства фуги" Вертхаймера, думал я. Конечно, Гленн Гульд обязан своим гением не Горовицу, думал я, но Вертхаймер вправе сделать
Горовица ответственным за свое разрушение и уничтожение, ведь Вертхаймер приехал в Зальцбург, привлеченный именем Горовица, не будь Горовица, он бы никогда не поехал в Зальцбург, во всяком случае не в тот ставший для него роковым год. Хотя «Гольдберг-вариации» были сочинены с единственной целью — помочь избавиться от мучений человеку, всю жизнь страдавшему бессонницей, думал я, — Вертхаймера они убили. Написанные изначально
для ублажения души, почти двести пятьдесят лет спустя они убили безнадежного человека, а именно Вертхаймера, думал я по дороге в Трайх. Не зайди Вертхаймер двадцать восемь лет назад в аудиторию номер тридцать три на втором этаже Моцартеума — как сейчас помню, ровно в четыре часа пополудни, — он бы не повесился двадцать восемь лет спустя в Цицерсе недалеко от Кура, думал я. На свою беду Вертхаймер зашел в аудиторию номер тридцать три в Моцартеуме именно в тот момент, когда Гленн Гульд играл в этой аудитории так называемую «Арию». Вертхаймер потом рассказывал мне о том, что он испытал, услышав, как играет Гленн, как он простоял у двери аудитории тридцать три до конца «Арии». Тогда мне стало понятно, что такое шок, думал я теперь. О том, кто такой так называемый вундеркинд Гленн Гульд, мы с Вертхаймером не имели ни малейшего представления, и, даже если бы мы что-нибудь об этом узнали, мы бы не восприняли этого всерьез, думал я. Гленн Гульд не был вундеркиндом, в игре на фортепьяно он с самого начала был гением, думал я, уже когда он был ребенком, одного мастерства было недостаточно. Мы, Вертхаймер и я, имели, так сказать, свои изоляторы — дома в деревне, из которых бежали. Гленн Гульд построил себе изоляционную клетку, как он называл свою студию, в Америке, недалеко от Нью-Йорка. Если
он называл Вертхаймера Пропащим, то его, Гленна, я хочу охарактеризовать как
Неприемлющего , думал я. 1953 год мне следует определить как
роковой для Вертхаймера, так как в 1953-м Гленн Гульд только для нас, для меня и Вертхаймера, и больше ни для кого, играл «Гольдберг-вариации» в доме скульптора, который мы снимали, — за годы до того, как он с теми же самыми «Гольдберг-вариациями», как говорится, одним махом стал мировой знаменитостью. В 1953-м Гленн Гульд уничтожил Вертхаймера, думал я. В 1954-м о нем ничего не было слышно. В 1955-м он играл «Гольдберг-вариации» в Большом фестивальном дворце, Вертхаймер и я слушали его на колосниках, вместе с рабочими сцены, которые до этого никогда не слышали фортепьянного концерта, но были в восторге от игры Гленна. Гленн,
весь залитый потом, Гленн, канадский американец, который, не стесняясь, назвал Вертхаймера
Пропащим , Гленн, который в «Гансхофе» смеялся так, как никто из моих знакомых никогда не смеялся, так вот, этот Гленн — против Вертхаймера, который был так называемой полной противоположностью Гленна Гульда, хотя я и не смогу описать эту противоположность, но я попытаюсь, думал я, если еще раз начну
эссе о Гленне . Я запрусь в квартире на Калле-дель-Прадо и буду писать о Гленне, а тогда и Вертхаймер станет мне понятен, думал я. Описывая Гленна Гульда, я уясню себе все о Вертхаймере, думал я по дороге в Трайх. Я шел слишком быстро и, пока шел, стал задыхаться — мой старый недуг, которым я мучаюсь уже больше двух десятков лет. Описывая одного (Гленна Гульда), я пойму все о другом (Вертхаймере), думал я; все время слушая «Гольдберг-вариации» (и "Искусство фуги") Гленна, чтобы потом о них написать, я буду узнавать все больше о искусстве (или неискусстве!) Вертхаймера и тоже смогу об этом написать, подумал я, и мне тут же страстно захотелось в Мадрид, на мою Калле-дель-Прадо, в мой испанский дом, никогда прежде я не скучал по дому так сильно. По сути, дорога в Трайх была весьма удручающей и должна оказаться, о чем я вновь и вновь думал, бесполезной. Или все-таки
не совсем бесполезной, как мне вдруг подумалось, подумал я и еще быстрей зашагал по направлению к Трайху. Охотничий дом я хорошо знал, ничего не изменилось, это было моим первым впечатлением; вторым — что он мог бы стать идеальным зданием для такого человека, как Вертхаймер, но никогда для него идеальным зданием не был, и даже совсем наоборот. Как и мой Дессельбрун, который никогда не был и не будет для меня идеальным, скорее совсем наоборот, думал я, — даже если все указывает на то, что будто бы для меня (и мне подобных) Дессельбрун идеален. Мы видим здание и думаем, что для нас (и нам подобных) оно идеально, а оно совершенно не идеально — ни для наших целей, ни для целей тех, кто нам подобен, думал я. И точно так же мы смотрим на какого-нибудь человека как на идеального для нас, тогда как он может быть чем угодно, но только не идеальным для нас, думал я. Мои предположения, что Трайх закрыт, не оправдались, ворота в сад и, как я смог разглядеть издалека, входная дверь были открыты, и я сразу же прошел через сад и вошел в дом. Лесоруб Франц (Кольрозер), с которым я был знаком, поздоровался со мной. Он услышал о смерти Вертхаймера только сегодня утром — все в ужасе, сказал он. Сестра Вертхаймера, госпожа Дутвайлер, известила о своем приезде в ближайшие дни, сказал он. Франц сказал, что я могу пройти в комнаты, он тем временем откроет в доме все окна, чтобы, сказал он, проветрить; как на беду, в довершение всего его товарищ по работе уехал на три дня в Линц, он в Трайхе один,
какое счастье, что вы приехали, сказал он. Он спросил, не хочу ли я выпить воды, он сразу же вспомнил, что я водохлеб. Нет, сказал я, пока не хочу, в трактире в Ванкхаме, где я думаю переночевать, я выпил чаю. Вертхаймер в тот раз, как обычно, уехал на два или три дня, правда, он
сказал , что поедет в Кур к сестре, сказал Франц. Ничего необычного или странного в поведении Вертхаймера, когда тот уезжал из Трайха на машине, сказал Франц, на которой Вертхаймер доехал до Атнанг-Пуххайма, он не заметил, машина наверняка все еще стоит на парковке у вокзала. Франц подсчитал, что сегодня ровно двенадцать дней, как его господин уехал в Швейцарию, и что он, как он только что от меня узнал, вот уже одиннадцать дней как мертв.
Повесился , сказал я Францу. Он, Франц, опасается, что теперь, после смерти Вертхаймера, его хозяина, в Трайхе, пожалуй, все переменится, к тому же речь идет о госпоже Дутвайлер,
очень странной особе, он не сказал, что опасается теперь появления госпожи Дутвайлер, но все же дал понять: он-де боится, что под влиянием швейцарца, своего мужа, она полностью изменит Трайх, может быть, даже продаст Трайх, сказал Франц, ведь зачем ей, вышедшей замуж в Швейцарию, и к тому же вышедшей замуж в Швейцарию очень выгодно, этот самый Трайх. Трайх-то ведь целиком и полностью — дом ее брата, он и перестроен, и обставлен, и обустроен был им исключительно под свои цели, да так, что любому другому Трайх показался бы неприятным, думал я. Сестра-то Вертхаймера никогда не чувствовала себя в Трайхе уютно, а ее брат, сказал Франц, никогда не давал ей в Трайхе
поправиться , все ее пожелания относительно Трайха никогда им не выполнялись, любые ее идеи изменить Трайх по своему вкусу он, Вертхаймер, душил в зародыше, между прочим, в Трайхе он все время только
мучил бедняжку, как выразился Франц. Госпожа Дутвайлер должна прямо-таки ненавидеть Трайх, думает он, потому что у нее в Трайхе не было ни единого счастливого дня, сказал Франц. Он вспоминает, как однажды она, не спросив брата, отдернула занавески в его комнате, после чего он, рассвирепев, выгнал ее из комнаты. Она хотела принимать гостей, он ей это запрещал, ей не разрешалось одеваться, как она хотела, она была обязана постоянно носить лишь те платья, которые
он желал на ней видеть, и даже в самую холодную погоду ей не разрешалось надевать тирольскую шляпу, потому что ее брат ненавидел тирольские шляпы и ненавидел — о чем и я знаю — все, связанное с народным костюмом, и сам он тоже никогда не носил ничего, что хотя бы отдаленно напоминало народный костюм, поэтому здесь, в этой местности, он, конечно, сразу же выделялся, ведь здесь все носят народную одежду, и в первую очередь костюмы, сшитые из грубой тирольской шерсти, в ужасных климатических условиях предгорья эта одежда практически идеальна, думал я, народный костюм, как и все, напоминавшее о народной одежде, был ему глубоко противен. Сестра однажды умоляла его разрешить ей пойти на так называемый
бекерберг , на танцевальный праздник по случаю Первого мая, пойти с соседкой, но он не разрешил, сказал Франц. И, само собой разумеется, от общества пастора она тоже вынуждена была отказаться, потому что Вертхаймер ненавидел католическую веру, в которую, как и я знаю, обратилась его сестра. Одной из его привычек было требовать, чтобы посреди ночи сестра приходила к нему в комнату и играла на старой фисгармонии, которая стояла у него в комнате, играла что-нибудь из Генделя, — Франц и в самом деле сказал:
Генделя . Сестре приходилось просыпаться в час или два ночи, надевать халат, и идти к нему в комнату, и садиться за фисгармонию в холодной комнате, и играть Генделя, сказал Франц, — отчего, конечно, сказал он, она все время простужалась и постоянно болела в Трайхе простудой. Он, Вертхаймер, нехорошо обращался с сестрой, сказал Франц. Он заставлял ее в течение часа играть Генделя на старой фисгармонии, сказал Франц, а наутро во время совместного завтрака на кухне говорил, что ее игра была невыносима. Он заставлял ее играть ему Генделя, чтобы снова заснуть, сказал Франц, ведь господин Вертхаймер все время страдал бессонницей, — а наутро говорил ей, что она играет
как свинья. Вертхаймер все время чуть ли не силой заставлял сестру приезжать в Трайх, он, Франц, даже думает, что Вертхаймер ненавидел сестру, но без нее он не мог бы существовать в Трайхе, и я подумал, что Вертхаймер всегда говорил об одиночестве, хотя в действительности не мог находиться в одиночестве, он не был
одиночкой , думал я, и поэтому все время брал с собой сестру, которую он, хотя и ненавидел как никакого другого человека на свете, все-таки любил, — брал ее с собой в Трайх, чтобы там на свой лад
использовать . Когда было холодно, сказал Франц, он заставлял сестру топить его комнату, и при этом он не позволял топить ее комнату. Она могла гулять только в определенном братом направлении и только на определенное братом расстояние, и она гуляла ровно столько времени, сколько он разрешал ей гулять, сказал Франц. Она почти все время, сказал Франц, сидела в своей комнате, но ей нельзя было слушать музыку, ее брат не выносил, когда она ставила пластинки, а ей это нравилось. Он, Франц, хорошо помнит детство Вертхаймеров, как они оба всегда с радостью приезжали в Трайх, веселые детки, всегда в хорошем расположении духа, сказал Франц. Охотничий дом был любимым местом игр обоих детей Вертхаймеров. В те годы, когда семья Вертхаймеров была в Англии — во времена нацистов, сказал Франц, когда здесь хозяйничал нацистский управляющий, — в Трайхе стало пугающе тихо, все в эти годы пришло в запустение, ничего здесь не ремонтировали, все пустили на самотек, потому что управляющий ничем не занимался; в Трайхе жил опустившийся нацистский граф, но он ни во что не вникал, сказал Франц, и этот нацистский граф
почти разорил Трайх. Когда Вертхаймеры вернулись из Англии, сначала в Вену, а потом, намного позже, и в Трайх, сказал Франц, они сделались совершенно на себя не похожи, перестали общаться с окружающими. Он, Франц, снова нанялся к ним, они всегда хорошо ему платили, и тот факт, что он во время нацистского правления и пока они были в Англии хранил им верность, они
всегда засчитывали в его пользу, сказал он. То обстоятельство, что в так называемые нацистские времена он занимался Трайхом больше, чем это устра�
Читать дальше