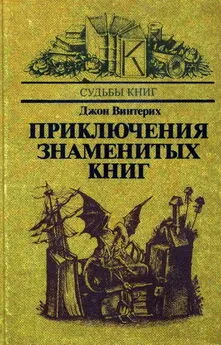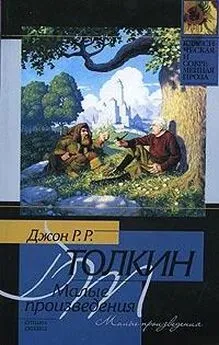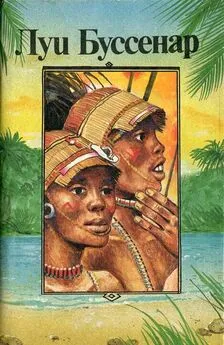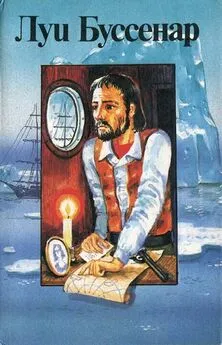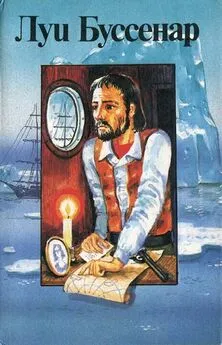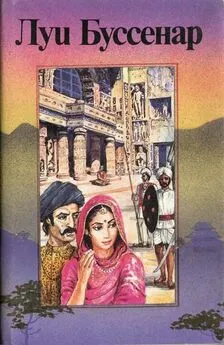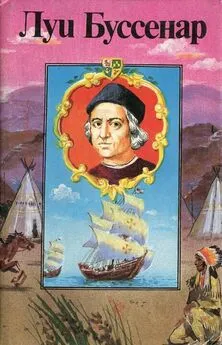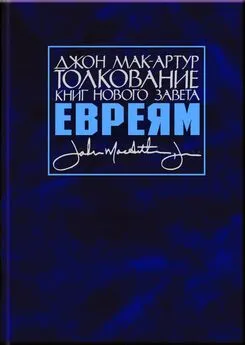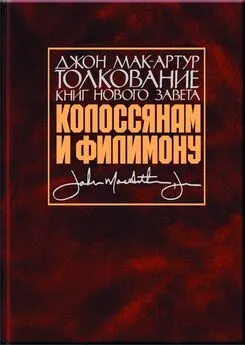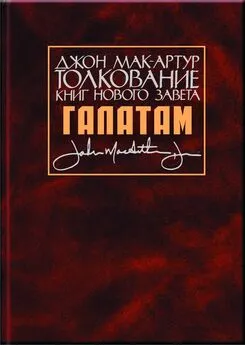Джон Винтерих - Приключения знаменитых книг
- Название:Приключения знаменитых книг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Винтерих - Приключения знаменитых книг краткое содержание
Американский журналист Джон Винтерих рассказывает о судьбах замечательных английских и американских книг: «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, произведений Э. По, У. Уитмена, М. Твена и др. Очерки, написанные живо и увлекательно, повествуют об истории создания произведения, распространения, восприятия его современниками. В послесловии прослежена судьба этих знаменитых книг в России.
Издание иллюстрировано. Адресовано широкому кругу читателей, книголюбам.
Джон Винтерих — американский журналист и библиограф — рассказывает о первом появлении и начале громкой судьбы прославленных книг Даниэля Дефо и Роберта Бернса, Диккенса и Теккерея, Бичер-Стоу и Марка Твена, Эдгара По и Уолта Уитмена…
Из классических английских и американских книг автор выбирает те, которые, на его взгляд, имели наиболее интересную издательскую историю. Автор рисует живыми штрихами обстановку и время создания этих книг, их место в истории книгоиздания, прием, оказанный им современниками при первом их появлении, библиофильские оценки первых изданий, историю их оформления и т. д.
В русском переводе опущены некоторые очерки о книгах, чья известность не вышла за пределы англоязычных стран.
Сокращенный перевод с английского Е. Сквайрс
Предисловие, послесловие, примечания Д. Урнова
Художник А. Антонов
Приключения знаменитых книг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С другой стороны, рядом с Диккенсом стоят теперь выдающиеся его современники. Но вот Винтерих, историк книжного дела, судит со своей позиции, и у него получается иная картина, и, скажем, «Ярмарку тщеславия» рядом с «Пиквикским клубом» поставить нельзя с точки зрения читательского спроса и тиражей. Ближайший из серьезных «соперников» Диккенса уступал ему по тиражам в несколько раз, а другие, вполне достойные, — и того больше: тиражи Диккенса — это цифры с четырьмя и даже пятью нулями. Такова «сила Диккенса»… А «сила Дефо»! Винтерих напоминает: никакая критика, никакие «разоблачения» не могли разрушить обаяния «Робинзона». Говорит он в другой связи и о том, что первое, прославившее книгу издание оказывается часто самым неудачным: ошибки, пропуски, опечатки, цензурные изъятия — трудно представить себе, как в таком виде книга могла сразу стать классикой. Читатели ничего этого будто и не замечали, да и без «будто», не замечали и все, потому что книга жила, как все-таки живет, в отличие от куклы, пусть и покалеченный, человек.
Допустим, Голдсмит медлил с окончанием своего «Векфильдского священника», потому что отделывал книгу, но — как? Он во всяком случае не устранил в ней множества несуразностей. Заканчивая роман, он, кажется, забыл, как книга начинается. Что это, обычная беспечность Голдсмита? Нет, судя по всему, это — позиция. «Книга, при бесчисленных погрешностях, может быть занимательна и скучна до крайности, хотя бы не содержала в себе ничего нелепого», — так писал Голдсмит, выпуская, наконец, свой роман. Кажется, он шел по стопам Дефо, ибо некоторые ошибки и несуразности в «Робинзоне», похоже, тоже допущены не без умысла. Винтерих прав, обращая ни них особенное внимание. Современные исследователи думают, что Дефо всего лишь «ошибался», условно, в кавычках, ради того, чтобы проверить несокрушимость им созданной «достоверности». А сам он в свою очередь следовал Сервантесу, который, делая мелкие ошибки, так и говорил: «Это не важно, главное, чтобы рассказ ни на шаг не отдалялся от истины». В таком смысле «истина» (Дефо говорил: «правдивая ложь») — сила творчества, создающая «вторую действительность». И вот, взявшись за такую книгу, одни простодушно верят, будто все «правда», другие понимают, что с ними ведется умелая литературная игра, но каждый «обманываться рад», потому что автор, принявшись за дело, выполнил свою роль от начала и до конца.
Удачные книжные судьбы, описанные Винтерихом, подтверждают своего рода правило: книга, которая так сразу и на века становится общедоступным чтением, многое меняет в читательских привычках, но остается по-старому одно: книгу такую читают, прежде всего просто читают.
Конечно, «вечную» книгу читают по-своему и разные люди, и разные эпохи. «Хижину дяди Тома» едва ли когда-нибудь вновь будут читать так, как прочли ее в свое время — прочли и начали Гражданскую войну. «Хижина дяди Тома» со временем, так сказать, впала в детство. А с «Алисой в Стране Чудес» случилось обратное, маленькая Алиса повзрослела, да как! Из этой книги, именуемой по традиции «детской», вычитали в нашем веке теорию относительности, кибернетику, психоанализ и сюрреализм.
В критике имеется даже целая школа, которая исходит из того, что книгу создает собственно читатель: книги нет, пока ее не прочтут, а когда читают, вычитывают, что хотят или что могут вычитать. Но ведь о человеке на острове было по меньшей мере три рассказа до «Робинзона» и около пятидесяти «новых Робинзонов» появилось после книги Дефо, а все-таки испытание временем выдержала одна эта книга. Как только вышел «Пиквикский клуб», он был тут же переделан ловким щелкопером, и эта переделка имела успех не менее массовый, чем книга Диккенса, однако время не подписало этот приговор — мы знаем единственный «Пиквикский клуб». Значит, существует книга, та самая, что живет века, и все ее читают. Одни читают, находя ее занимательной, другие видят в ней нравственный урок и даже особую философию, но как бы там ни было, это — чтение, для всех и каждого в меру сил, насколько глубоко сумеешь зачерпнуть.
«Мир под переплетом» — мера истинно удавшейся книги. Читатель открывает книгу, словно окно в другую жизнь. Совсем не обязательно, чтобы созданный «мир» был правдоподобен. Книжная «жизнь» может быть вовсе не похожа на жизнь действительную. Читатель поверит в условность, только бы то была живая условность, вполне завершенная в своем особенном устройстве. Механика чудес и «чепухи» у Льюиса Кэрролла сделалась вполне понятна только теперь, даже когда писал об этом Винтерих, это еще не прояснилось. Но ведь и тогда, и сто лет тому назад поняли то, что нужно понять читателям: чудесная книга! Никому ведь и в голову не приходило, что «Приключения Алисы» в известном смысле содержат все, уже напечатанное тем же автором, но под другим именем и под такими названиями, которые, как выражается Винтерих, способны внушить разве что страх и ненависть неискушенному читателю: «Замечания к Эвклиду», «Программы по алгебраической логике», «Формулы простой тригонометрии». Нет, «Приключения Алисы» читали и сейчас многие читают, получая удовольствие и не задумываясь над тем, что тут таятся кибернетика с теорией относительности, как вообще говоря, людям, которые едят, важен вкус, а не знание пропорций соли и перца.
Очерки Винтериха охватывают примерно два века, за время которых произошло по меньшей мере два существенных перелома в книгопечатании и чтении: после «Робинзона», т. е. в начале восемнадцатого столетия, и в пору «Пиквикского клуба» — в середине прошлого века. Нам теперь трудно представить, насколько мало было в свое время читателей у тех классических произведений, которые известны ныне каждому грамотному человеку. Шекспир был драматургом общедоступного театра, однако прижизненные издания его пьес попадали в руки избранному и очень узкому кругу лиц. Чтения как занятия для широкой массы тогда не существовало. В Англии и Америке дело осложнялось еще и тем, что пуритане, обладавшие по обе стороны Атлантики большим влиянием, преследовали всякую забаву, в том числе и книги, если только это было не священное писание или какое-нибудь «дело», наука или нравоучение. До «Робинзона» широкая публика читала в Англии фактически две книги — библию и «Путь паломника», неоднократно упоминаемый Винтерихом. Но «Путь паломника», как видно и по заглавию, — та же проповедь, только изложенная более или менее занимательно. А «Приключения Робинзона», хотя они и появились под видом «подлинных записок», это художественная литература, ставшая общедоступной книгой. Но по-современному много и к тому же совершенно разных по интересам и уровню читателей стало лишь во времена Диккенса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: