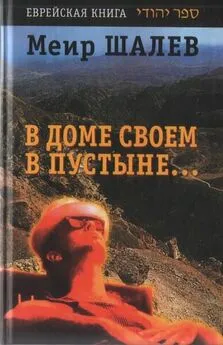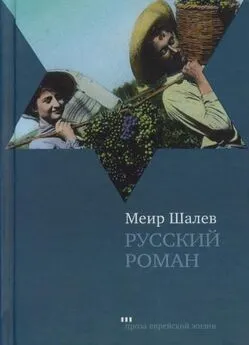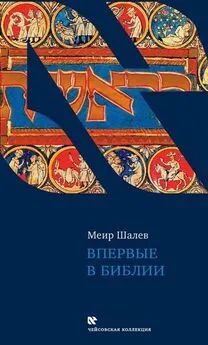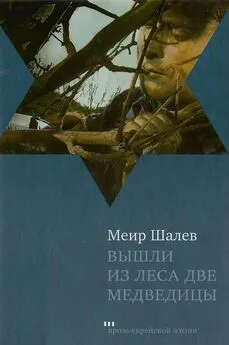Меир Шалев - В доме своем в пустыне
- Название:В доме своем в пустыне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2007
- Город:Москва. Еврейское слово
- ISBN:978-5-7516-0700-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Меир Шалев - В доме своем в пустыне краткое содержание
Перейдя за середину жизненного пути, Рафаэль Мейер долгожитель в своем роду, где все мужчины умирают молодыми, настигнутые случайной смертью. Он вырос в иерусалимском квартале, по углам которого высились здания Дома слепых, Дома умалишенных и Дома сирот, и воспитывался в семье из пяти женщин — трех молодых вдов, суровой бабки и насмешливой сестры. Жена бросила его, ушла к «надежному человеку» — и вернулась, чтобы взять бывшего мужа в любовники. Рафаэль проводит дни между своим домом в безлюдной пустыне Негев и своим бывшим домом в Иерусалиме, то и дело возвращаясь к воспоминаниям детства и юности, чтобы разгадать две мучительные семейные тайны — что связывает прекрасную Рыжую Тетю с его старшим другом каменотесом Авраамом и его мать — с загадочной незрячей воспитательницей из Дома слепых.
В доме своем в пустыне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Они поженились во дворце Верховного Комиссара, — вспоминал господин Вайншток. — Ты знал об этом? В присутствии самого сэра Алана Каннингема и его супруги, лично. Весь Иерусалим говорил об этом.
— А дядя Авраам построил ей красивый дом из камня, — продолжал я. — И он сидит там, как пес, снаружи, один во дворе, и ждет, чтобы она пришла.
— Сидит, как пес, снаружи?.. Что за выражения! — снова упрекнул меня господин Вайншток. — Мужчины не должны так говорить друг о друге.
— Извините, — сказал я.
Но господин Вайншток не успокаивался.
— Как пес, снаружи… — повторил он и разгладил свой высокий лысый лоб. — Разве можно говорить такое?.. Нет, я хочу тебя спросить, Рафаэль Майер, а ты повтори это своей маме, которая все время читает: «С такими мужчинами, такими псами и такими родственницами — зачем человеку книги?» Так ты говоришь, он построил ей красивый дом? Каменный дом?
— Красивый каменный дом, и, если она перейдет к дяде Аврааму, она будет жить там, как царица.
— И что же он делает целыми днями во дворе? Все еще обрабатывает камни?
— Да. И еще он делает бутерброды и дает мне поесть.
— Так вот, значит, что он делает, этот твой Авраам, а? Сидит, как пес, снаружи, для себя обрабатывает камни, для тебя делает бутерброды, а для нее стережет каменный дом и ждет ее прихода?
— Да, — сказал я с большой гордостью. — И еще он делает для меня «пятерки», и он последний еврейский каменотес, и таких бутербродов, как у него, нет больше нигде на свете.
На обратном пути со скважин, что в вади Арава, я иногда сворачиваю в одно из небольших боковых ущелий, останавливаю пикап и иду пешком по мягким мергелевым холмам. Земля здесь рассыпчатая и беззвучная, крошится и сминается под моими рабочими ботинками и окрашивает их чуть заметной липкой белизной.
Между холмами расстилаются маленькие светлые проемы тишины. Там и сям виднеются натеки проступившей соли. По краям их растет всякая трава, а порой — тростники и высокие зеленые стебли. Здесь я ложусь на спину, закрываю глаза и подставляю уши тишине.
Мягкий и податливый, мергель принимает форму моего тела, и мозг, который не в силах больше выносить пустоту и скудость впечатлений, впадает в растерянность. Лежание он толкует как парение, тишина пустыни кажется ему своего рода шумом, а шелест тростника становится разновидностью тишины.
Нет звука приятнее слуху, чем абсолютное беззвучие пустыни. С самого начала оно окутывает меня, как полотнище, как та старая и мягкая простыня, которой Черная Тетя укрывала меня в летние ночи: укроет-взмахнет, подымет-опустит. Не Бабушкина мокрая простыня для хамсина, распространяющая прохладу, и не обеих Тёть простыня для «стрижки сквозь пальцы», которая покалывает кожу, а та — простыня порхающая, простыня взлетающая, которую Черная Тетя то взвивает, то опускает, то опускает, то взвивает, в протяжных, скользящих по коже, лижущих прикосновеньях улыбки, и ветерка, и легкой ткани.
«Приятно, Рафаэль? Правда, приятно?» Она стоит у моей кровати, голая и черная, распахнув крылья. Ее лица я не вижу, потому что с каждым взмахом простыни оно исчезает, а при каждом ее опускании мне заслоняет глаза. Но кипу волос, сверкающую черным пламенем в конце каждого взмаха, я вижу, и улыбку ее я чувствую, и шалфей ее запаха я обоняю, и хриплость ее голоса я слышу: «Приятно, Рафаэль? Правда, приятно?» Взмахни, и погладь, и накрой, и взмахни, и прикосновения большого полотняного крыла то затемняют, то освещают полуприкрытость моих ресниц.
Так я помню, так с детства. И каждый раз, когда я видел, или обонял, или пробовал что-нибудь, и знал, что запомню, я понимал также, что это знак взросления. Не те «признаки», о которых говорила Мать, не «признаки и приметы взрослого парня», а вот это, и это, и это, и это — прикосновение, краски, мелодии запахов.
Добрый, приятный запах подымается от длинных, острых листьев, разносится вокруг и смешивается с горьковатым паром воды, точно запах давней картинки: четыре циновки из свежего тростника, четыре лежащие женщины. Ступни моих ног на мягкой плоти ваших спин, ваши блаженные постанывания, узор плетения циновки — белым, и фиолетовым, и розовеющим тиснением на вашей коже.
Три смерти наших мужчин были упомянуты в газетах. Один был убит в своем собственном огороде и удостоился газетного упоминания, поскольку умудрился погибнуть от «кротовой пушки», которую он сам же и соорудил. Возможно, я уже упоминал о смерти этого родственника, но даже если так, я, пожалуй, все-таки вернусь и расскажу о ней, чтобы не прерывать связь моих мыслей. Земледельцем он был и вышел на смертный бой с одним кротом, который портил его огород. Он раскопал самый свежий бугор в огороде, вскрыл там кротовый ход и установил в нем свою пушку. «Кротовая пушка» представляла собой весьма простое и хитроумное орудие уничтожения, главной частью которого был короткий отрезок полудюймовой трубы, служившей стволом для одиночного патрона охотничьего ружья. Позади ствола устанавливался примитивный боек, который представлял собой попросту обыкновенный гвоздь, злонамеренный, взведенный и удерживаемый на месте только пружиной и предохранителем. А впереди ствола выступал металлический язычок, которая служил спусковым крючком.
Земледельцы устанавливали такой ствол внутри небольшого раскопа, обнажавшего вход в проделанный кротом туннель, и клали рядом надрезанную, резко пахнущую луковицу. Крот торопливо устремлялся к луковице и в слепоте своей нащупывал и толкал металлический язычок, освобождал боек из предохранителя и выстреливал себе в голову, оставляя на месте происшествия лишь несколько красных, быстро стынущих комочков мяса и липкие клочки шерсти. Всего миг назад он сверкал, как черное пламя, и вот он уже тускнеет и гаснет.
Всякий раз, когда Большая Женщина рассказывает мне эту историю, Черная Тетя замечает, что нужно говорить не «крот», а «слепыш», но я люблю слово «крот» и размышляю над тем, что этот крот, подобно Дедушке Рафаэлю, тоже покончил с собой. Правда, это кротовое самоубийство, поскольку в нем нет ничего сознательного и заранее запланированного, ставит серьезный вопрос о его истинной природе. Но, несмотря на древний спор между намерением и поступком, нельзя отрицать того факта, что этот крот действительно выстрелил в себя сам.
Наш родственник установил пушку, а затем отправился в свой грейпфрутовый сад, побелил там стволы и с наступлением темноты направился домой. Поскольку у дорог есть собственная логика и собственная память и они не раз соблазняют шагающих по ним, подобно тому, как высохшие русла навязывают свои маршруты потокам наводнений, этот дядя вернулся по своим же следам, вступил в раскоп у норы крота и угодил в ловушку, которую соорудил для своего врага.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: