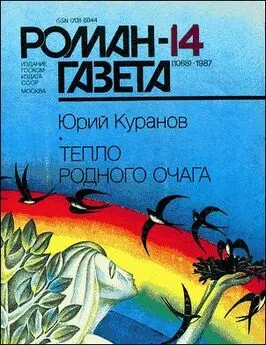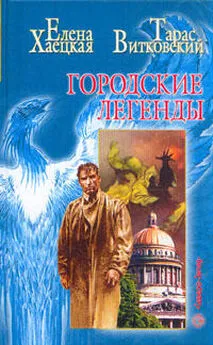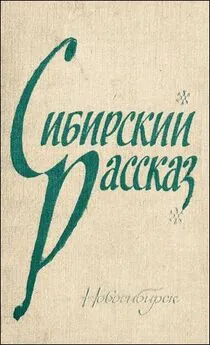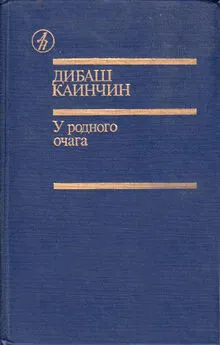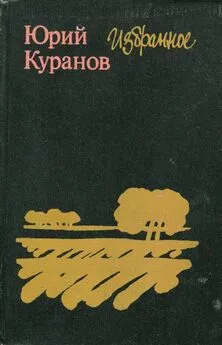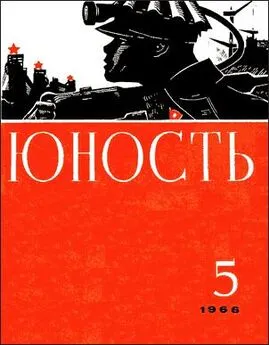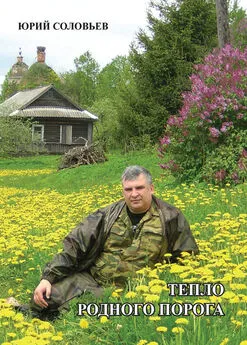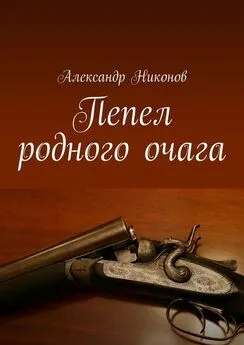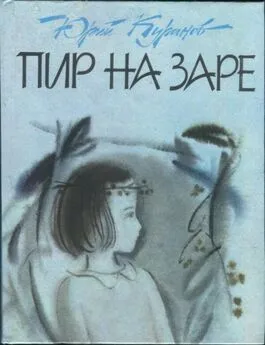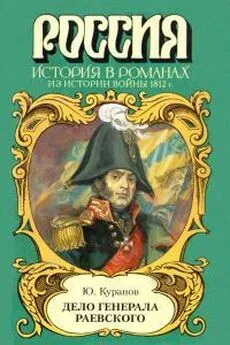Юрий Куранов - Тепло родного очага
- Название:Тепло родного очага
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Куранов - Тепло родного очага краткое содержание
...Сопрягая жизненный опыт так удаленных во времени друг от друга князя Дмитрия Донского и генерала Раевского, Пушкина и простой костромской колхозницы, нашей современницы, автор целенаправленно выстраивает исторические факты и судьбы, осмысляет и утверждает культурные и нравственные ценности, сохранить которые - наш гражданский долг перед историей, перед настоящим и будущим...
Тепло родного очага - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но машина оказалась неисправной, она была в ремонте.
— Юрий Николаевич, а вы сходили бы на источник, целебный тут у нас есть. Пока пару-тройку дней я ремонтируюсь, вы бы там водички набрали, — посоветовал Дмитрий Васильевич.
— А что там за источник такой?
— Я не знаю, его не исследовали никакие ученые, но наши люди, да и из других местностей за этой водой уже веками ходят. Она вроде бы от всех болезней помогает. Гипноз это, может быть, но от нарывов и от желудочных расстройств действительно эта вода сильна.
— Что же, серебро в ней, что ли? — удивился я.
— Все может быть, — согласился Дмитрий Васильевич. — Вон источник за Себежем, та вода годами стоит и не тухнет.
— А как туда пройти? Это далеко?
— Да нет, километров десять. За Шелковом, в лесной такой лощине. А сводить вас туда может Евгения Михайловна.
— Кто это?
— Это мама наша, — пояснил Дмитрий Васильевич и улыбнулся. — Она вас знает. Вы как-то целый вечер от нее из проходной в Опочку звонили.
— Так это ваша мама?
— Ну конечно. Она уже давненько сторожем здесь работает. Она вас и проводит.
— А может, ей некогда?
— Да ну что вы! — махнул рукой Дмитрий Васильевич. — Она любит туда ходить. Да и у девочки нашей что-то вроде золотушки. А от золотушки-то, мама говорит, вода эта очень способная.
Шелково — это высоко на увалах, под самые здешние озерные небеса вознесенная деревня. Дворов в ней не так уж и много: три или четыре. Деревня держится так возвышенно, так душевно беседует с перелетными птицами, такие сосняки да ельники по-за ней начинаются, гористые, тесные и просторные одновременно. Так и несет из них буреломом, тишиной, таинственностью. А грибов там, за Шелковом, хоть косой коси!
Песчаной вытянутой по краю глубокого лесного оврага дорогой мы вошли в высокий и относительно сухой ельник, под зеленый сумрак тяжелых и ароматных ветвей. Это были даже не ветви, а какие-то зеленые облака, еле покачиваемые безветрием. Воздух был тягуч и легок одновременно. Воздух этот хотелось пить, хотелось глотать его огромными бесконечными глотками и не выдыхать назад, а оставлять его там, в груди, чтобы смолистая целительная тишина наполнила весь организм, всю сущность каждой клетки тела. Так, видимо, чувствовали себя язычники, уходя на свои страшные, томительные и жестокие бдения, к поклонению тайным и страшным силам, олицетворенным для них в образах растений, зверей, уродливых человеческих существ.
Но наша Евгения Михайловна и здесь, на узенькой и еле различимой во мхах тропинке, чувствовала себя как дома. Без суеты, без напряжения, без торопливости она шла молча, словно отправилась на колодец за водой через дорогу. Между тем тропинка вышла на глубокий спуск и впереди высветилась широкая лесная впадина. Многие сотни, а может быть, и тысячи лет назад здесь было озеро. К нашим дням оно высохло, и дно его древнее уже успело довольно густо прорасти елками, ольхой и березой. В глубине таких впадин вдоль некогда веселых берегов здесь и там бьют, продолжают бить из глубины земли ключи, которые питали вымершее озеро влагой. Ключи такие удивительно чисты, воды их до услаждения вкусны, а порою и целебны.
Тропинка раз-второй скользнула петлями, потом прямо вниз, потом опять положила среди высоких трав петлю и решительно пошла в углубление. Тут Евгения Михайловна остановилась. Она обернулась к нам румяным помолодевшим лицом и осторожным полушепотом предупредила:
— Отсюда нужно спускаться молча. Ключ-то нежный, он сразу шаг почувствует. Так-то он смирный, и, если подойти нешибко да молчаливо, он весь прозрачный и не шелохнется. А если с шумом к нему кто бросается, сразу закипит и может замутиться.
Чуть ли не на цыпочках, еле дыша в теплом и неподвижном воздухе леса, мы начали спускаться к роднику. Вдали справа бурчал ручей, и далеко был слышен его ровный, неторопливый голос. По кустикам неспешно, однако весело и деловито прыгали простодушные и невесомые синицы.
Источник мы увидели издали, на самом окончании тропинки. Лежал плотно вдавленный временем в землю, в кочкастое и травянистое дно давнего озера какой-то как бы обугленный завременелостью сруб. Словно кто-то рыть здесь собирался колодец и начал уже дело, три-четыре венца положил, но вода поднялась, и рыть отпала необходимость. Скамеечка из жердочек была сколочена невдалеке от тропинки. И кто-то оставил на скамейке байковое одеяло детское. Когда-то одеяльце было, видимо, малиновым, но сделалось таким выцветшим, что трудно было даже догадаться, какого же цвета появилось оно на свет, произведенное на фабрике. Только по узкому краешку нижней складки можно было догадаться о его былой малиновости. На одеяльце, легко и осторожно распластавшись, грелась небольшая зеленая ящерица. Она так и осталась лежать, никак на нас не отреагировав, а может быть, отреагировав на нашу осторожность, на легкость и уважительность нашей поступи.
Перед срубом в самом окончании тропки лежала тоже дочерна завременелая плаха. Вот к этой плахе мы и спустились, ничем не спугнув родника. Он лежал перед нами настолько прозрачный, что не верилось, будто ложбинка эта с золотистым, мельчайшего помола илом покрыта водой. Только водяные жуки, туда и сюда рывками вдруг бросающиеся зачем-то в разные стороны, говорили, что это все же вода. Ощущение от чистоты и опрятности источника было в чем-то схоже с тем, которое испытал я некоторое, довольно давнее время назад от взгляда и от всего лица Евгении Михайловны, когда она приветила меня в ночной совхозной сторожке у телефона. Источник был и молчалив, и весь незримо и неслышно разговорчив.
Он оставался весь нетронутым и тогда, когда наша пожилая проводница ступила на доску перед срубом, вынула из дорожной сумки белую эмалированную кружку и неслышно зачерпнула. Сделала несколько глотков, замерла, прислонившись коленками к срубу, и потом, осторожно повернувшись к нам, передала кружку. Евгения Михайловна, пока мы пили, пока мы упивались и одухотворялись пахучими серебристыми глотками, набрала воды в большую бутыль и в белый эмалированный бидончик.
И так же неслышно, почти невесомо Евгения Михайловна отошла в сторону, уступив место у родника другим.
Но стоило только первому из нас приблизиться к источнику, из илистого мелко золотящегося дна поднялось кипение и в одном, другом, третьем месте лопнули светящиеся пузырьки. Вода не замутилась, но жуки разбежались. Кипение начало нарастать. И я вспомнил старинную народную примету, которую мне поведала во времена моего детства моя бабушка: чем чище родник, чем он целебней и чем дальше он ютится от людской суеты, тем с большей чуткостью воспринимает он чистоту и добронастроенность человеческого сердца, которое к нему приближается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: