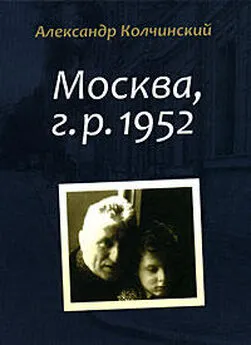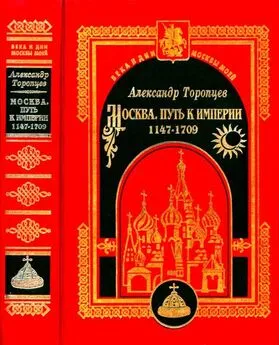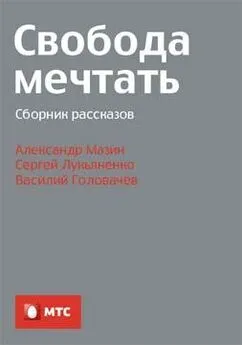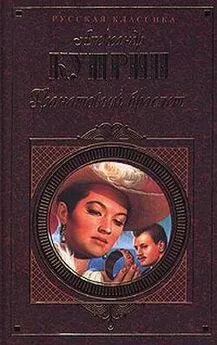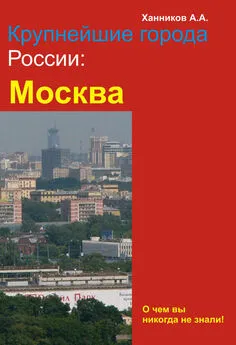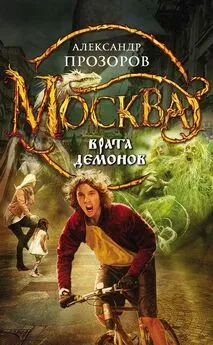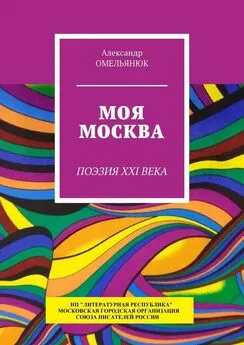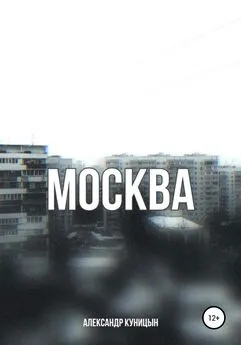Александр Колчинский - Москва, г.р. 1952
- Название:Москва, г.р. 1952
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Колчинский - Москва, г.р. 1952 краткое содержание
В этой книге я хотел рассказать не только о себе, но и о людях, взрослых и сверстниках, окружавших меня в детстве и отрочестве. Мне хотелось рассказать о Москве и московской жизни, какими я запомнил их в те давние годы. Хочется надеяться, что мой рассказ будет интересен читателям разных поколений: моим ровесникам, их родителям и детям.
Александр Колчинский
Москва, г.р. 1952 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
АРБАТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В первые годы нашей жизни на углу Арбата и улицы Веснина, то есть в конце 1950-х, в окрестных переулках сохранялись приметы старого московского быта. Какие-то товары – молоко и ящики с бакалейными товарами – иногда доставляли в магазины на лошадях. Изредка возле нашего дома появлялся старьевщик. Он становился посреди двора со своей тележкой и довольно безнадежно кричал «старьёберём». Я никогда не видел, чтобы ему что-нибудь давали.
Регулярно заходил точильщик с деревянным точильным станком на плече и традиционным криком «Ножи, ножницы точить, бритвы править!» созывал жильцов. Его услуги пользовались спросом. Он стоял посреди двора и крутил ногой свое точило, а мама немедленно сгребала все ножи и ножницы в доме и отправляла меня вниз.
Время от времени по квартирам ходили деревенские люди, продавая продукты. Зимой появлялся мужик с рыбой – судаками и щуками. Мама готовила мое любимое блюдо – судака по-польски. Щука же почему-то относилась к разряду тех продуктов, которые мы никогда не ели. Приходили тетки со связками сухих грибов, какое-то время постоянно ходила подмосковная молочница с творогом и сметаной.
В Гагаринском переулке (после полета Гагарина его переименовали в улицу Рылеева, чтобы народ ненароком не спутал князя с космонавтом) была маленькая москательная лавка, где продавали вонючее хозяйственное мыло и коробки с загадочным для меня названием «персоль». Кажется, «персоль» использовали для отбеливания белья. Там же по определенным дням недели продавали из бочки керосин, и зимой к лавке тянулись старушки, волоча по снегу санки с бидонами. Мама мне объяснила, что в некоторых старых домах еще не было газа, приходилось готовить на керосинках.
Интересной приметой тогдашней жизни были довольно частые пожары, причем горели, как правило, магазины или столовые. Взрослые зеваки стояли и смотрели вместе с детьми на гигантские, как в кино, языки пламени и спорую работу пожарных. По обрывкам разговоров я понимал, что в толпе все эти пожары считали результатом поджогов с целью сокрытия крупного воровства, об этом говорили с полной уверенностью. Особенно впечатляющим был пожар склада во дворе магазина «Диетический». Это был трехэтажный деревянный сарай, и горел он так, что и на следующий день к груде обгоревших бревен было трудно подойти из-за жара.
С арбатскими продуктовыми магазинами, претерпевшими за время моего детства и отрочества ряд радикальных изменений, у меня связано множество воспоминаний.
До начала 1960-х в магазинах наблюдалось примерно такое же изобилие, какое можно было увидеть в знаменитой «Книге о вкусной и здоровой пище», имевшейся почти в каждой московской семье. Это объяснялось несколькими причинами, о которых я тогда, разумеется, не догадывался.
Во-первых, в Москву приезжали иностранцы, и власти старались не ударить в грязь лицом. В центральных московских магазинах продавалось то, чего не было в других, особенно окраинных районах. Во-вторых, в Москву еще не стали ездить за продуктами из других городов и деревень, это было дорого, а у колхозников к тому же не было паспортов. В-третьих, по сравнению с зарплатами продукты стоили недешево. Особенно роскошествовать позволить себе не могло большинство людей, в том числе и мои родители. Напротив нашего дома находился так называемый «Смоленский» – «Гастроном № 2», в котором продавалась масса вкусных вещей: розовая ветчина с тонкими кольцевыми прожилками, языковая колбаса с кусочками ливера и фисташками, десятки сортов сыра. Все эти деликатесы родители покупали обычно грамм по двести, а если ждали гостей, то немного больше.
С начала 1960-х многообразие продуктов стало постепенно, но неуклонно сокращаться. Тогда же возникли длиннющие, многочасовые очереди, в которых я тоже иногда стоял, – домработницы брали меня с собой, так как на лишнего человека, в том числе и ребенка, отпускали больше товара. Загадка советской торговли в те годы заключалась в том, что какие-то продукты первой необходимости – то яйца, то лук, то подсолнечное масло – вдруг исчезали. Помню, что особое раздражение у взрослых вызвало исчезновение муки, когда ее стали выдавать по полученным в домоуправлении карточкам. Для моей мамы отсутствие муки не было особенной проблемой – у нее все равно не оставалось времени на пироги, а вот моя бабушка Фира очень сокрушалась – она привыкла что-нибудь печь почти каждый день. Они с дедом наловчились делать муку из манки, которую еще можно было купить и которую мололи в кофемолке. Выдача муки по карточкам сохранялась довольно долго, хотя реальный дефицит сошел на нет в течение пары лет – муки стали давать больше, и люди делились друг с другом.
Напротив нашего дома на Арбате находился рыбный магазин, где был целый прилавок, заполненный разными сортами селедки, икрой, маслинами. Там часто продавались миноги, а иногда и разные заморские диковины, например, трепанги. Я рассматривал трепангов, покрытых густым слоем черной угольной крошки (так их хранили), и удивлялся, что их можно есть. Попробовать трепангов мне так и не удалось: несмотря на мои настойчивые просьбы, мама не выказала ни малейшего желания с ними возиться. Но самым интересным был для меня похожий на аквариум бассейн, где плавала живая рыба, – то сомы, то сазаны, то карпы.
Чуть дальше по нашей стороне Арбата была булочная с богатейшим кондитерским отделом. Помимо конфет, шоколада, пирожных и тортов там продавалось множество всяких пряников и сушек, козинаки из всех мыслимых орехов, рахат-лукум, пастила, зефир; была еврейская выпечка – штрудель, земелах, кихелах, хотя я тогда не догадывался, что это традиционные еврейские сладости; несколько сортов халвы и нуги, а изредка – «киевское варенье», смесь засахаренных ягод и кусочков всевозможных сухофруктов.
В этой булочной мы покупали хлеб, и, когда мне исполнилось восемь лет, мама решила, что меня можно посылать туда одного. Видимо, я к тому времени уже неплохо считал, так как это было сразу после денежной реформы 1961 года, когда в стране одновременно ходили старые и новые, в десять раз более дорогие, деньги.
В качестве репетиции мама велела мне купить батон и вручила старую синюю пятирублевую купюру (старые деньги было легко отличить от новых – они были больше и у них был вертикальный рисунок). Для первого раза мы отправились в булочную вместе, но мама стояла в стороне. Несмотря на волнение, я правильно выполнил всю процедуру, слегка удивив кассиршу, – все-таки я выглядел еще довольно маленьким. Так как репетиция прошла успешно, мама стала часто посылать меня за хлебом. Иногда она поручала купить «что-нибудь к чаю рубля на два с полтиной». Тут я должен был проявить разумную инициативу – выбрать то, что мы с мамой оба любили; отец сладкого не ел и поэтому в расчет не принимался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: