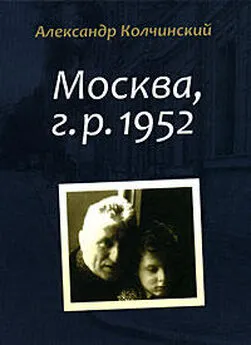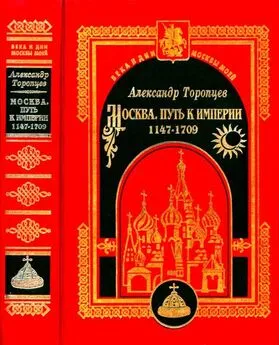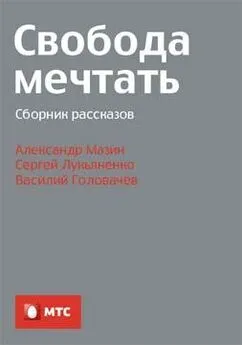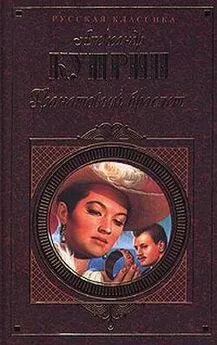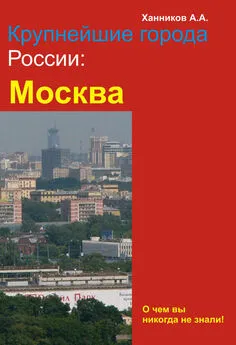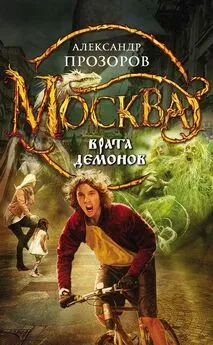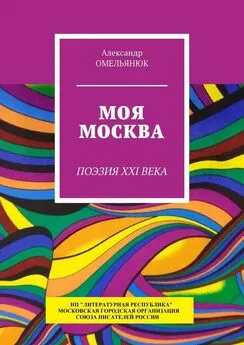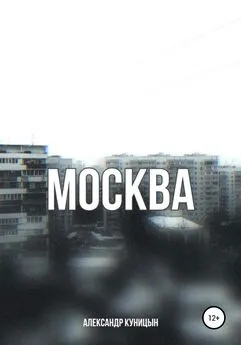Александр Колчинский - Москва, г.р. 1952
- Название:Москва, г.р. 1952
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Колчинский - Москва, г.р. 1952 краткое содержание
В этой книге я хотел рассказать не только о себе, но и о людях, взрослых и сверстниках, окружавших меня в детстве и отрочестве. Мне хотелось рассказать о Москве и московской жизни, какими я запомнил их в те давние годы. Хочется надеяться, что мой рассказ будет интересен читателям разных поколений: моим ровесникам, их родителям и детям.
Александр Колчинский
Москва, г.р. 1952 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О Маяковском Камянов говорил многое из того, о чем позднее писал в своей книге Карабчиевский, только более спокойно и обоснованно. Критика Маяковского в те годы выглядела несколько неожиданной.
Ведь Маяковский был не только советским классиком; его футуристические корни давали возможность возвращать к жизни экспериментальное искусство. В 1967 году на Таганке появился спектакль «Послушайте!» – по текстам Маяковского. Последователь Маяковского Андрей Вознесенский был тогда самым популярным поэтом, его книги невозможно было купить; на той же Таганке шел с огромным успехом спектакль по его стихам – «Антимиры». Раскольников одобрительно цитировал Вознесенского на своих уроках, тогда как более скептичное отношение к нему Камянова не встречало у нас понимания.
Камянов, конечно, помнил, что нам предстояло писать сочинения на вступительных экзаменах. Поэтому его уроки, полные сарказма по отношению к советским классикам, неизменно кончались словами: «А теперь, дети, запишите план сочинения на вступительном экзамене», и следовало нечто противоположное содержанию урока. Я к Камянову относился с большой симпатией, понимал сложность его положения и ценил его доверие к нам. В моих глазах он выигрывал по сравнению с Раскольниковым. С одной стороны, Феликсу Александровичу повезло с программой – в девятом классе проходили XIX век и он мог не особенно упирать на идеологию. С другой стороны, Раскольников был, как я сейчас понимаю, более или менее убежденным «шестидесятником», которому хотелось, чтобы все идейные «концы» хоть как-то сходились; в этом смысле Камянов, я думаю, был менее склонен к иллюзиям.
Справедливости ради отмечу, что не все мои одноклассники относились к Камянову так же, как я; некоторые ворчали по поводу его «двуличия».
Годы преподавания во Второй школе Виктор Исаакович вспоминал впоследствии с очевидным удовольствием. Так получилось, что с середины 1970-х он работал редактором отдела критики в «Новом мире», где время от времени печатала рецензии моя жена. Она была единственным автором отдела, к кому Камянов обращался на ты, а на вопросительные взгляды сотрудников с улыбкой отвечал: «Она ведь жена моего ученика из Второй школы!»
В конце 1970-х Камянов выпустил книгу о «Войне и мире». Литературный стиль Виктора Исааковича удивительно соответствовал его речи, отточенной и немного витиеватой. Я прочитал книгу с большим интересом, она побудила меня с запозданием найти и прочитать «Исповедь» и религиозные произведения Толстого, которые в советские годы нигде, кроме 90-томного академического собрания сочинений, не печатались. Я даже написал Камянову восторженное письмо.
Блестящим учителем был наш географ Алексей Филиппович Макеев. Его предмет назывался «экономическая география зарубежных стран». Географией я увлекался лет с десяти, и в общем, хорошо ее знал, но и мне приходилось туго на его уроках, особенно когда Макеев давал короткие письменные контрольные на 10–15 минут. Он внезапно объявлял: «Достать листки бумаги и убрать все остальное!» Все кричали: «Без предупреждения!» – но протесты не помогали. Дисциплина у Макеева была железная – иначе невозможно было бы успеть столько, сколько мы делали за один урок. Система преподавания Макеева уже тогда была похожа на преподавание в хорошей американской школе, когда отметка зависит от систематической работы на протяжении четверти, а экзамен в конце фактически ничего не решает.
Макеев сам оборудовал свой класс узкопленочным проектором и почти на каждом уроке показывал нам фильм о стране или регионе, который мы проходили. Мне трудно даже представить себе, сколько времени и энергии надо было тратить, чтобы доставать все эти фильмы.
Совсем не так поначалу выглядели наши уроки физики. Когда наш класс был только сформирован, у администрации, как ни странно, не нашлось для нас хорошего учителя, и почти весь первый год то преподавали какие-то явно временные люди, то уроков физики не было вообще. Только в самом начале десятого класса к нам пришел Яков Васильевич Мозганов. Как я сейчас понимаю, перед ним стояла почти невыполнимая задача: не только повторить с нами на должном уровне то, чему нас до этого учили плохо и фрагментарно, но и подготовить класс к вступительным экзаменам, в том числе в самые трудные вузы – на физфак и в Физтех, куда многие собирались поступать. Мозганов великолепно с этим справился. Яков Васильевич был элегантный, жовиальный человек с аккуратными усами, всегда в дружелюбном расположении духа. Он исключительно четко объяснял материал и управлялся с классом главным образом с помощью уместной шутки.
Мозганов оказался большим поклонником Окуджавы. Как-то он пригласил всех желающих после уроков послушать принесенные им записи. Там были и старые песни, и совсем тогда новая, мне еще неизвестная «Грузинская песня» («Виноградную косточку в теплую землю зарою…»). Песню все слушали с благоговением, мне тоже она очень нравилась. Только много позднее я узнал, что виноград никто косточками не размножает, для этого используют черенки.
Школьную программу математики у нас преподавал Алексей Петрович Ушаков по прозвищу «Бегемот». Прозвище это очень ему подходило: он был крупный, грузный человек, флегматичный и обычно довольно мрачный. Однако, несмотря на свою неразговорчивость, преподавал он прекрасно; наверное, для преподавания математики много говорить не обязательно. Алексей Петрович давал нам самые большие домашние задания из всех преподавателей, да и уроки его были весьма напряженные. «Бегемот» объяснял новый материал как бы нехотя, видимо, в душе полагая, что мы и так все это можем прочитать в учебнике. А вот когда он рассказывал про решение каких-нибудь особенно сложных задач, тут у него появлялся даже некоторый азарт, и он быстро исписывал всю доску своим мелким острым почерком. Увлекаясь, он часто захватывал большой кусок перемены.
Лекции по математическому анализу и другие разделы высшей математики, включая начала теории множеств и теории вероятности, читал нам Леонид Ефимович Садовский, профессор прикладной математики в МИИТе. Весь его вид олицетворял формулу «В здоровом теле – здоровый дух». Это был подтянутый, бодрый человек со спортивной осанкой и атлетическим сложением. На лекции он часто приходил с зачехленной теннисной ракеткой или с мокрыми волосами, явно после бассейна. Неслучайно он был всю жизнь активным пропагандистом спорта среди математиков и физиков. Лекции он читал превосходно, сказывался многолетний опыт преподавания студентам. Благодаря его лекциям я до сих пор сохраняю представление об основах анализа, хотя в своей профессиональной жизни практически им не пользовался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: