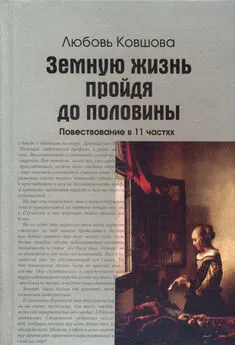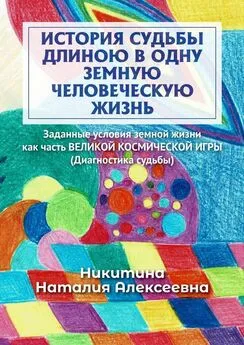Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Она уже перла на нас взбесившимся самосвалом, необхватной и твердой, как бампер, грудью теснила к тамбуру, приноравливаясь выпихнуть в двери, но не успела. Махнул из-за створок: «Давайте сюда!» — отчаянный наш прораб, и мы ринулись мимо нее вглубь больничного коридора.
Какая все же гнусность — страх перед мелким, но все же начальничком. И какая стыдоба! А тогда, в сравнении с нашим прорабом, — особенно.
Однако и страх и стыд обернутся для меня навсегда неприязнью, а то и ненавистью к чиновникам, после того как при выходе из больницы Белку вдруг шатнет на дверь тамбура, она стукнется боком, ватно сложится и поедет по гладкой дверной поверхности на пол, запрокинув бледное до синевы, истончившееся враз лицо, а сзади стеганет крик:
— А-а-а?! Еще обмороки у них! Нежности какие, чухна немытая! Выметайтесь, я сказала…
Я хотела повернуть назад, чтобы кусаться и драть до крови тупую, казавшуюся теперь безглазой морду. Но почему-то не повернула. Может быть, из-за Белки? Подхватив ее огромными лапищами, баба Настя уже выламывалась на улицу.
Только вряд ли. Белку приводили в чувство, растирали снегом на больничном крыльце, потом в столовой отпаивали чаем, потом на прорабовском же газике везли в наш разлюбезный барак — и все как-то помимо меня. Толклась я бессмысленно рядом, и проку от меня было куда меньше, чем от коровы Таньки, не пригодной ни для чего путного.
Так вот, и тоже вдруг, оказалось.
А день никак не кончался. В мутном заоконье нес снег между рыжих с подпалинами стволов, рвал клочья дыма с трубы котельной и голоса ребятни, что, едва чернея сквозь снег, летала с горки возле серого котельного здания. Пустой барак гудел сквозняками. Белка спала, разметав волосы на полкровати и бормоча во сне. А я не находила себе места.
Как всегда, при душевной смуте невозможно было оставаться одной. Нужен был кто-то, кто бы смог объяснить мне меня, утешить или, может быть, обругать, но только не остаться равнодушным. И такой человек у меня в Приозёрске был. У меня, потому что с девчонками я им не делилась.
О, дед Хейсин! Как сейчас вижу дубовую, полированную временем и руками палку, на какую опирается при ходьбе почти двухметровая глыбина фигуры, беспорядочно-сивую шевелюру, теплые, карие глаза, если присмотреться, беззащитные в глубине.
Как привязанная, я по выходным дням таскалась за ним в неспешных его прогулках. Осенью по хвойному настилу соснового бора. Зимой по расчищенным городским тротуарам. Понимала, что надоедаю, и бесконечно торчала у него на кухне, не могла уйти.
Дед Хейсин был не просто человеком восьмидесяти с лишним лет, он был той самой жизнью, которую я бы хотела для себя. Ничего важного, казалось, не прошло в жизни мимо него. До революции он был издателем самого Куприна, и отсвет этого имени все еще лежал на нем. Потом слушал Ленина и Троцкого, о котором едва заикались в школьной истории. Пережил блокаду. И даже старость у него была не злобствующей от бессилия и потому жалкой, как бывает у людей, бестолково проживших свой век. Он и сейчас интересовался всем на свете, консультировал местное литобъединение, состоял членом многочисленных комитетов и комиссий. Многим был нужен и много чего умел.
А лучше всего, по крайней мере мне так думалось, дед Хейсин рассказывал. Причем он не изображал своих героев в лицах, как это делал Борька, говорил однотонно, слегка захлебывающимся от астмы голосом, и чудо происходило на уровне слова. Рассказывая о Валааме, он мимоходом упоминал тамошнюю экскурсоводшу: «такая пушистенькая женщина», — и я отчетливо видела светлые, легкие волосы, плавную округлость линий, уютность и домашность, до боли неуместные на фоне изношенных монастырских стен Валаамского дома инвалидов. И одно это слово будто усиливало во много раз одиночество и заброшенность безруких, безногих с войны, по двадцать лет живущих там людей, и долго мучило потом ощущением чужой непоправимой беды.
И все же самым важным для меня были не эти рассказы, а страстность его отношений к людям и суждение о них «по гамбургскому счету». То есть не по внешним обстоятельствам человека, а по его внутренней сути. И не имело значения, кто был этими людьми: зловредная старуха из соседней квартиры или великие мира сего.
Как-то в разговоре мы набрели на Сталина.
— А что Сталин?! — отхлебывая чай, сказал дед Хейсин. — Он ничем особенно не интересен. Обыкновенный диктатор. — Допил, отодвинул чашку с витой, фигурной ручкой и добавил: — Вот Ленин — другое дело. Ленин, Христос, Диоклетиан…
Часа два после я шлялась ночным Приозёрском, натыкалась на фонари, дышала, приходила в себя, подавленная вопросом:
«Сталин ему не интересен, а что ж тогда я? Что там могло выйти по его гамбургскому счету?»
Но что-то, видимо, выходило. Иначе почему бы он слушал мои бредни, вникал в них и разбирался, нянчился со мной?! И если можно было сейчас бежать к кому-либо со всей своей душевной маетой, так только к нему одному.
Шапка, пальто, валенки, и я уже кубарем катилась с крыльца под пушечный удар двери, притянутой к косяку пружиной. Проскочил барачный поселок и метельная, продувная с Ладоги улица Гастелло, мелькнул угол Гастелло и Пионерской, и вот знакомая дверь на первом этаже старого, еще финской постройки дома.
На стук никто за дверью не отозвался. Я постучала громче. Из квартиры напротив высунулась зловредная бабка в косо повязанном платке и радостно сообщила:
— А никого нет! — И не удержалась, поскольку знала все и обо всех и знание распирало ее: — В Кузнечное уехал на все праздники. Дочка у ево там.
И точно: уже подступало 8 марта, а дед Хейсин говорил о поездке…
Нет горше разочарования, чем обманувшая надежда. Но было еще что-то в этой запертой двери, что-то важное для меня, только я сразу не могла понять, что.
Соседка балабонила дальше, судя по печеному личику под платком — о чем-то вроде: «Ходют тут всякие, а потом галоши пропадают» и «нечево тут ходить, когда все уехамши», но я больше не слушала ее. Ощущение важности то ли мысли, то ли образа, смутно прошедшего краем сознания, не кончалось, и позарез нужно было выяснить, что это такое. Я невпопад покивала бабке и выскочила на улицу.
Хлестал в лицо снег, жесткий, как известка, стремительно несся присмиревшим городом, и представлялось, что так по всей земле: нигде нет ему конца-края. И было холодно и долго проламываться сквозь него. Но зато именно здесь пришла разгадка, и то, что едва померещилось у двери деда Хейсина, наконец обрело словесную форму. Почему-то это были стихи, и почему-то о весне. Наплывала в них на город белым парусом ночь, были открытые в ночь окна, и можно было зайти поделиться своим смятением, и каждый бы его понял. Однако не это было тем, померещившимся, оно было ближе к концу:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: